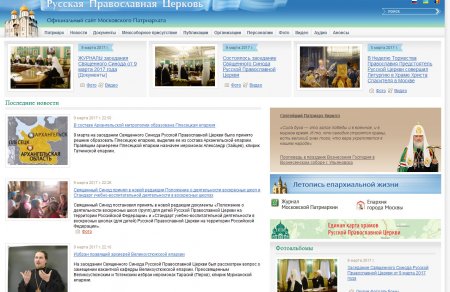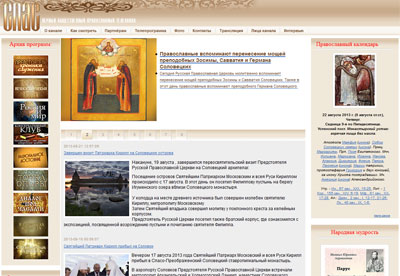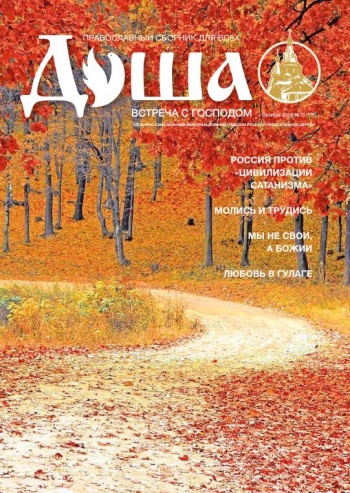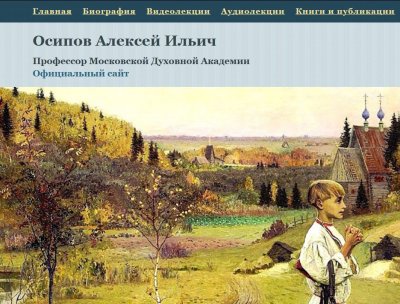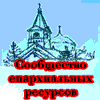«…Надежда должна одинаково далеко отстоять и от победительности, и от пораженчества... жизнь есть рыцарское приключение, исход которого совершенно неизвестен и которое именно поэтому следует принимать с великодушной веселостью», – писал в своё время выдающийся христианский мыслитель С. С. Аверинцев. Но как жить на «высоте» этой надежды, не терять её глубину, «не мельчить»? На этот и другие вопросы отвечает пастырь, публицист, настоятель кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (город Калач-на-Дону Волгоградской области) протоиерей Димитрий Климов.
Протоиерей Димитрий Климов, фото: pravmir.ru
– Если бы Вас попросили дать определение надежды, то как бы оно звучало?
– В христианстве надежда имеет имя. В богослужении, в молитве мы произносим: «Слава Тебе, Христе Боже наш, Упование наше». Интересно, что эта молитва всегда звучит в конце службы. Этот молитвенный текст основан на словах апостола Павла: «Господь Иисус Христос, надежда наша» (Тим. 1:1). То есть христианское понимание надежды не тождественно мирской интерпретации, приравнивающей надежду к ожиданию блага. Осуществление надежды в мире ожидается уже здесь и сейчас, в земной жизни. Наша надежда связана с Воскресением Господа и с грядущим воскресением мёртвых. Апостол Павел говорил, что пребывают «вера, надежда, любовь, но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13). Потому что любовь вечна: когда исполнение времён произойдёт, потребности в вере и надежде уже не будет. Любовь же останется.
– Современный философ Петер Слотердайк указывает на связь цинизма и отсутствия надежды. Согласны ли Вы с такой позицией?
– Это было характерно ещё для античности: вспомним стоиков, киников, которые «крушили» надежды. Вот и сегодня считается, что если ты надеешься на что-то, то сам себя обманываешь, пребываешь в иллюзии, что есть проявлением слабости. Но христианство – это совсем иное мировоззрение, несопоставимое с подобными позициями. Их сравнивать – всё равно, что сравнивать громкое с солёным. Принципиально отличаются предметы надежды, как мы уже отмечали. Если привязывать надежду исключительно к этому миру, то не избежать сплошных разочарований. И в такой логике понятна вера исключительно в себя, признание абсурдности мира, как, например, у экзистенциалистов.
– Часто отмечают реалистичность христианской надежды, что делает её принципиально нетождественной, скажем, оптимизму. В чём заключается эта реалистичность, ведь надежда допускает и чудо?
– Реалистичность предполагает уже первичный опыт Встречи, предвкушение Встречи грядущей. Есть хорошее христианское понятие «залог Духа». У нас имеется уже предвкушение богообщения благодаря опыту личной молитвы, Литургии и Евхаристии и пр. Мы надеемся не на какие-то вещи, которые мы не чувствовали, не осязали, не познали. Надежда включает в себя желание, ожидание и предвкушение. Предвкушение этого счастья полноты богообщения хорошо выражается и через концепт обожения: когда человек уже здесь исполняется Духом, соединяется с Богом. В какой-то степени надежда уже здесь исполняется. В этом её реалистичность.
Апостол Павел отмечает ещё один важный момент: надежда – от опытности, опытность – от терпения. Славянское слово «опытность» связано со словами «искусство» и «искушение». Опытность рождается от преодоления испытаний, духовной брани, борьбы со страстями, с грехами.
– Надежда сопряжена с доверием к ближнему, бытию, Богу. Но как быть человеку, чьи надежды не оправдались (матери, молившейся об исцелении своего ребёнка, но потерявшей его; брошенной жене и т. д.)? Как таким людям не бояться вновь «обжечься» и найти в себе силы отважиться на новую надежду и доверие Богу, ближнему?
– Это то, о чём мы говорили. Важно то, каким человек выходит из испытания: сломленным или приобретающим опыт. «Искушение» – показательное слово: в библейском контексте означает «переплавление» («Искусил мя еси, якоже переплавляется серебро», – говорит псалмопевец Давид). Чтобы очистить серебро, надо его расплавить, подвергнуть такому нагреву, чтобы оно буквально потеряло форму. Тогда легко отделить и снять примеси из серебра и получить метал высшей пробы. Так и в жизни человеческой, расплавленной в испытании, легко отделить Господу «примеси», «шлаки».
Я сегодня, например, беседовал в больнице с пожилой женщиной, которая впала в уныние после операции. Бабушка просила меня помолиться, чтобы Господь её как можно скорее забрал к себе. А её отчаяние от неправильно понятой надежды. Если бы её надеждой был Христос – она бы чувствовала смысл своего страдания. Открыть человеку смысл его страдания никто не может извне, даже священник – к этому можно прийти только самому, иначе все будет выглядеть цинично. Объяснения вряд ли уместны – нужно ждать действия Божия. Эффективнее о таких людях молиться, сочувствовать им, сопереживать, принять их скорбь в своё сердце и постараться эту ношу с ними разделить. Тогда, возможно, опыт милосердия, опыт любви что-то приоткроет в их собственной жизни.
– У Габриэля Марселя есть прекрасное замечание: «Единственно подлинная надежда – это надежда, устремлённая на то, что от меня не зависит, которая движима смирением, а не гордыней». Надо отметить, что, по сути, это одно из наиболее распространённых в христианстве пониманий надежды. Как тогда понимать идею доброго дерзновения, столь утвержденную даже в аскетике? Не есть ли моя надежда на что-то проявлением моей дерзновенной, пусть и выжидательной, требовательности по отношению к Богу?
– Проблема нашего времени – это отсутствие надежды, дерзновения, радости духовной. Приступив в 1990-е гг. к активному воцерковлению, мы стали читать именно аскетическую, монашескую литературу, где очевидна тональность плача, скорби от своей греховности и пр. «Держи ум свой во аде», – мы очень любим эти слова св. Силуана Афонского, но забываем вторую часть фразы: «и не отчаивайся». Интересно понять: такое духовное настроение – результат унылости или, напротив, радостные изначально люди, попадая в унылую обстановку, становятся депрессивными. Здоровое, непрелестное дерзновение обязательно – без него никак. Оно должно основываться не на мысли, что мы своими духовными подвигами будем достойны спасения. Верно говорит Марсель: надежда устремлена на то, что от нас не зависит. Искупление, совершённое Христом, от нас не зависело: Он спас нас, когда мы были греховны. Мы в этой жертве фактически не участвовали. Тем не менее считаем, что очень многое зависит от наших добродетелей. С одной стороны, это так. Но с другой… Мне всё время вспоминается притча: человеку надо переправиться с одного берега реки на другой. Лодочник ему предлагает помочь добраться на другой берег. Если человек себя будет вести достойно и адекватно – не раскачивать лодку, не переворачивать – то легко доберётся на другой берег. Но не то, что он ведёт себя порядочно и смирно, переправляет его на другой берег. Нужны лодка и лодочник. Если человек будет просто сидеть смирно на берегу, он никогда не доберётся на другой берег. «Лодку» как раз нам и предоставил Господь своей Жертвой, своим Воскресением. Наше дело – лишь ответить благодарностью на этот дар.
О дерзновении Писание говорит: «Он сказал ей: дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя» (Лк. 8:48). Дерзновение всегда предполагает вектор, динамизм. А жизнь христианина – это непрестанная устремлённость, движение. В Апокалипсисе сказано: «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:16). То есть даже если бы человек был холоден, устремлён не туда (как апостол Павел до обращения), то Богу гораздо легче было бы переориентировать эту устремлённость. Христианство акцентирует: духовная инертность, аморфность, статика крайне губительны для души. В духовной жизни невозможно находиться в «нейтральных водах». Я сегодня был в больнице и спрашивал, кого помазать освящённым маслом. И многие, даже один мусульманин, равнодушно ответили: «Ну, помажьте, батюшка, хуже не будет» (хотя были и верующие, которые окликнулись на предложение с воодушевлением). Один мужчина-атеист очень яростно начал протестовать, что-то мне доказывать. Встречаются такие «идейные» атеисты, «поток» внутренней искренней убеждённости которых следовало бы направить в другое русло. Мне кажется, что такое состояние ближе Богу, чем теплохладность отдельных псевдоверующих.
Конечно же, надо следить, чтобы дерзновение не обернулось гордыней, самообманом.
– Надежду можно определить и как форму желания. «Тот, кто желает, но не действует, плодит чуму», – как-то заметил Ж. Батай в одной из своих работ. Таким образом, надежда не пассивна, а деятельна. Как согласуется эта деятельная природа христианской надежды со смирением как её необходимым условием?
– Я уже отчасти ответил притчей: смирение проявляется в том, что ты сел в лодку, деятельность – что пришёл к этой лодке, понял, что тебе всё-таки надо переправиться на другой берег. Есть множество людей, у которых нет желания вообще куда-то «плыть».
Ожидание свершения надежды ведь тоже может быть активным. Крестьянин, поджидая вызревания плодов, ведь поливает, ухаживает за растениями.
– В своё время Мераб Мамардашвили считал надежду формой малодушия. Чем, на Ваш взгляд, отличается надежда от малодушия и инфантильности?
– Сейчас много проблем из-за понятийной неточности. Часто даже споры возникают даже не столько из-за разницы в аргументации, сколько из-за словесной путаницы. Так и в этом случае: мы с Вами говорим о христианской надежде, а Мамардашвили и К° (а-ля Камю) говорили о неком самообмане, иллюзии, попытке подстраховать свою жизнь какими-то нерушимыми гарантиями. Добавим, это надежда, предметом которой является не «Небо», а «земля».
Инфантильность ведь тоже разная бывает. Например, когда мы перекладываем ответственность за собственные поражения на внешние обстоятельства («сглаз», зависть и пр.), «судьбу», исторические события, социальную ситуацию и пр., то это тоже проявление инфантильности.
– Как избежать соблазна воспринимать надежду в категориях земного благополучия, отождествлять надежду и хилиазм («ожидания установления тысячелетнего Царства Божия на земле»)? Ведь это чревато искажениями как личного духовного опыта, так и сущности церковного опыта…
– Избежать можно, оставаясь в традиции. Показательно, что подобные настроения особо «буйным цветом» расцветали в сектах христианских. Очень жаль, что у нас очень поверхностные представления о традиции, редуцирующие её до ритуала, формы. А ведь без знания её невозможно не сбиться в словесной эквилибристике.
– У Э. Блоха, создателя «философии надежды», есть парадоксальное замечание, что фактически не существует человека без надежды: «Даже самоубийца бежит в отрицание [жизни] как в лоно: он ждет покоя». Как разрешить эту трагедию «заблудившейся надежды» для человека, далёкого от церковной жизни? Как разговаривать с такими людьми?
– Всё, что касается нашего будущего, – это не сфера знания, а область веры и надежды. Мы не можем опереться на какой-либо опыт здесь – мы оказываемся уязвимыми. Когда мы ложимся спать, не можем точно знать, проснемся ли утром, но мы на это надеемся. Мы детей воспитываем, любим, но у нас нет гарантий, что они не вырастут подлецами – это тоже область надежды.
Так и самоубийца, который будущее вроде бы для себя зачёркивает – вряд ли он надеется на посмертное бытие. Но важно помнить, что «убийца убивает одного человека – самоубийца убивает всех людей», то есть он зачёркивает для себя весь мир, даже Бога. Но здесь кроется совсем иное понимание надежды: в христианстве она не отождествляется с покоем, но с богообщением.
Как говорить с такими людьми? Мы слишком преувеличиваем значение слов, силу своих аргументов. Это тоже форма гордыни. Я как пастырь всё более и более разувериваюсь в силе слов. Надо молиться об этом человеке, сострадать, войти в боль Другого. Это и будет для него ненавязчивым свидетельством надежды от Господа. Дарить надежду можно лишь удостоверением своей укоренённости в божественной надежде.
Беседовала Анна (Голубицкая) Николаенко