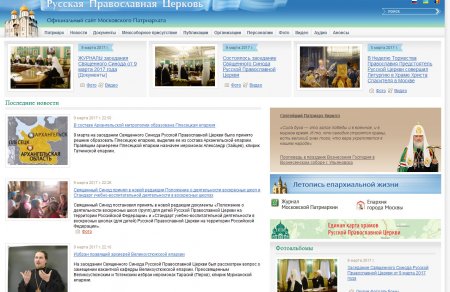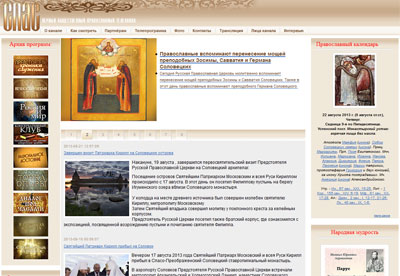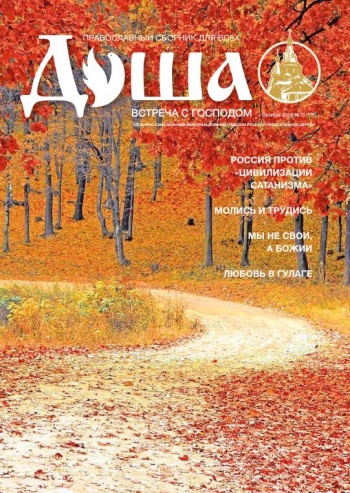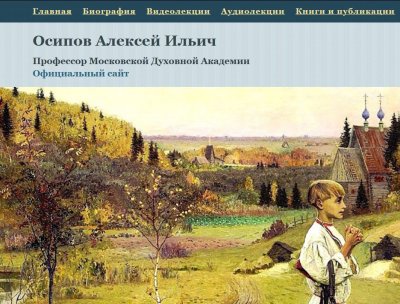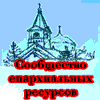Программа «Парсуна»: полные текст и видео.
Как “чувства верующих” мешали снять фильм “Монах и бес”. Почему фильм «Штрафбат» не противоречит исторической правде, а современные фильмы о советских спротсменах могут грешить против нее. И можно ли снять фильм о «положительно прекрасном человеке». Об этом и многом другом говорили режиссер Николай Досталь и Владимир Легойда в программе “Парсуна”.«Парсуна» — авторская программа председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.
— Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Досталь. Николай Николаевич, здравствуйте.
— Добрый день, здравствуйте.
— Николай Николаевич, на всякий случай напомню, у нас пять основных тем: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Мы на эти темы побеседуем, это связано с окончанием молитвы Оптинских старцев: «научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». И перед тем как мы к первой теме перейдем, я бы очень хотел вас попросить уже по такой сложившейся у нас традиции — я вам говорил перед записью — не то чтобы представиться, а сказать что-то… как бы вы ответили на вопрос: вы кто?
— Да, это я вспоминаю своего младшего сына Александра: когда его в детском саду, ему было пять лет, спросили: а кем у тебя папа работает, где? Он говорит: у меня папа нигде не работает, он кино снимает. Я послушал, думаю: Санек, твои уста как-то очень все правильно… Потому что действительно, если говорить так посерьезней, в моей профессии есть что-то от мистификатора. Потому что даже если говорить о моей семье, то где-то я пропадаю месяцами в экспедициях, на съемках, меня нет. Потом вдруг проходит год или сколько, люди собираются в зале, на белой простынке на экране идет что-то какое-то действо, народ смеется, плачет, аплодирует, свистит — получается какое-то вроде произведение кинематографа. В этом есть какая-то для меня такая магия, что ли, для кинорежиссера. Мне кажется, это такая профессия немножко необычная, и в общем, я ее люблю, она по мне.
— А вы чувствуете себя мистификатором?
— Ну, в какой-то степени — да. Когда уже… я чувствую, когда я вижу на экране результат. Я чувствую: ух ты, как я что-то придумал, что-то создал! Но когда я работаю, производство — здесь я пахарь, пахарь и пахарь — само производство когда…
— Пахарь-мистификатор.
— Да, тут уже как-то думаешь не про искусство, а про то, что вовремя снять, как-то все это, тут уже совсем другое. А в результате что-то такое… Мистика, не знаю.
ВЕРА
— Первая тема — «Вера». Такой вопрос у меня: фильм на религиозную тему или на церковную тему — это всегда фильм о вере или нет?— Конечно, если так по большому счету — конечно, здесь фильм о вере, безусловно. О вере, да, а как без этого?
— Знаете, я встречал, например, такую точку зрения, не то чтобы я с ней очень согласен, но читал я, что «Андрей Рублев» — это вообще не про Андрея Рублева, а что это метафора про советских диссидентов, которую облекли в такую форму.
— Для меня это чушь. Чушь полная. Это, конечно, о вере, конечно, о художнике. Художник и вера. И о любви, любви к Всевышнему, любви к своему таланту, то есть как бы вера в свой талант. Нет, это абсолютно никаких тут таких подтекстов у Андрея Тарковского я не чувствовал. У него вообще не было таких «фиг в кармане» в его фильмах, которые он снял в Советском Союзе, на мой взгляд.

— Конечно.
— Я поэтому и спросил: религиозный фильм – это непременно… вот вы снимали фильм о вере или нет?
— Нет, у меня не было задачи снять фильм о вере. Просто я снимал фильм об этих персонажах, об этой истории, но в этой истории, конечно, о вере, в этой истории уже. Изначально у меня была история, персонажи, сюжет.
— А как вообще рождается у вас? Я так понимаю, что иногда это из каких-то вот, тот же «Монах и бес» — вы вдруг соединили две истории, и вам показалось, что они…
— Я могу рассказать вкратце так это, как «Монах и бес». Мы снимали предыдущий фильм, я снимал «Раскол» в Кирилло-Белозерском монастыре. И там рядом Нило-Сорская пустынь. И мне подарили там книгу о монахах этой пустыни, и я стал читать и прочитал: Иван Семенович Шапошников — это девятнадцатый век, какой-то убогий хроменький, так прочитал его, что ли, биографию. Какой-то странный и вроде какой-то провидец. Рясофор. Жил на кухне. И когда вдруг выходил утром, он выходил с какими-то синячками, и там слышался какой-то шум и чуть ли не драка с кем-то. И я думаю: о, какой интересный, что ж там, вот какая-то мистика. А потом поехал в Великий Новгород и там в их главном соборе в Кремле прочитал житие Иоанна Новгородского, который, будучи монахом Иваном, поймал беса в рукомойнике. Бес взмолился: «Отпусти!» — «Отпущу, если в Иерусалим, туда-сюда, к гробу Господню». Он его свез туда-сюда и стал мстить, подкладывать компроматы в его келью: какие-то папильотки, бражку, всё. Монахи схватили его, раз — на причал, Волхов, привязали — плыви подальше по течению, а он против течения поплыл. Все на колени, его обратно в монастырь. И вот когда у меня это и это сомкнулось — тут девятнадцатый век, а там одиннадцатый-двенадцатый, я подумал: кто же такую чертовню может написать? Наверное, Арабов.
— Арабов, да.
— Я ему предложил, и он написал сценарий. Вот так родился «Монах и бес», из того, случайно как-то, я не знаю, как можно сказать.
— Знаете, я сейчас подумал…
— Так же и «Раскол», кстати. И «Раскол» родился случайно. Я прочитал, снимая «Завещание Ленина» о Шаламове, у меня он читает там «Аввакум в Пустозерске», есть поэма: «Не в бревнах, а в сердце…»
— «Не в бревнах, а в ребрах церковь моя».
— Да-да. Прочитал и вот у меня как-то: Шаламов там пятнадцать лет выжил, этот самый в Пустозерсе Аввакум пятнадцать лет и сожжен. И вот как я стал в этом копаться — в староверах, во всем семнадцатом веке, родился сценарий «Раскол».
— А вот к вопросу как раз об этих…
— Неожиданно.
— …неожиданностях, о мистике и мистификации: вот писатели часто говорят, что пишешь когда, кажется, что диктуют. А у вас бывает такое чувство? Как приходят темы, вы сейчас рассказали. А когда вы снимаете, есть что-то сходное, когда вы не понимаете, как решить какую-то сцену? Я по-дилетантски, конечно, рассуждаю так.
— Я бы сказал — нет. Настолько кинематограф в отличии от литературы, музыки настолько технологичный, индустриальный вид искусства, что здесь только лишь вот, почему я сказал: пахарь, когда я работаю. Ну что вы, здесь только лишь совместить — время, бюджет, актеры, занятость, сценарий, репетиции, погода, натура, где снимать, — что тут не только ничего не приходит — все уходит, уходит чего надо, остается только вот это вот. А потом на экране вдруг видишь и — о-о-о-о…

— Вот тут и вера, тут и любовь, тут все. Тут сострадание, это вот уже в исходе, то, что закладывалось в сценарии, понимаете, конечно. Тут вдруг выходит, что чего-то похоже на какое-то киноискусство.
— А вот, скажем, и «Раскол», и «Монах и бес» уже после того, как они были сделаны, вы смотрели, вы размышляли. Как вы считаете, вам в личном плане, не как профессионалу, не как режиссеру замечательному, а вот в личном плане осмысления каких-то вопросов веры, они вам что-то дали или нет?
— Конечно, дали. Конечно. Я не могу сказать, что я стал поститься регулярно или что-то. Нет. Но конечно, это с точки зрения даже какого-то просветительского момента по отношению к Церкви, к Русской Православной Церкви, к расколу, ко всему, старообрядцам — ко всему, к сегодняшней Церкви, ну конечно, дало, естественно, я стал немножко более зоркий к этой жизни. И к смерти, и к жизни — это все вместе, у меня это…
— А что значит это — более зоркий к смерти?
— Вы знаете, я считаю, что надо почаще задумываться о смерти: чище живешь, чище, когда ты понимаешь, что… конец неизбежен. Но бессмертие возможно, я бы так сказал.
НАДЕЖДА
— «Надежда» у нас следующая тема. А как выдумаете, надежда и оптимизм — это одно и то же, про одно и то же или нет?— Я могу сказать, что моя любимая мысль одного лауреата Нобелевской премии, врач такой, Альберт Швейцер, он хорошо сказал, он сказал: «Мой опыт пессимистичен, но моя вера оптимистична». Вот я могу подписаться под этой фразой. Вот так бы я ответил вам на этот вопрос.
— Знаете, это очень здорово, я помню эту швейцеровскую мысль, но очень здорово, что у меня в продолжении…
— Опять это в другом вопросе?
— Нет, нет, здесь же, просто как вы думаете, на что надеется пессимист — что будет еще хуже?
— Пессимисту надо надеяться на то, что все-таки хуже не будет. (Смеются.)
— Нет, смотрите: если опыт… мысль яркая, афоризм яркий у Швейцера…
— Да, вы знаете его, ну это известно.

— Я не знаю, как избавиться от пессимизма. Тут надо так: не на что надеяться, а как избавиться от пессимизма. Как чуть-чуть взглянуть иначе на свою жизнь вообще, на то, что где ты живешь, как ты живешь. Это может быть… помочь окружающие, помочь твои друзья, семья, мир — только так.
— Николай Николаевич, а вам лично знакомо чувство не то что даже пессимизма, а мы же про надежду, да — отсутствие надежды, уныние, депрессия, если говорить из области психологии, вот вам лично эти периоды, эти чувства, эти ощущения знакомы? Бывает у вас такое?
— Это всегда знакомо, когда начинаешь новый проект.
— А почему?
— Потому что все время сталкиваешься с сопротивлением продюсеров: бюджет — не бюджет, это, к сожалению, на этом уровне, понимаете, сплошные огорчения и такие стычки — они именно касаются этого.
— То есть этой самой производственной части, да?
— Да, скорее так. В других областях у меня этого нет. Я не помню, чтобы как-то у меня было в других областях, когда я уже вошел в работу, во все. А вот на уровне запусков производства, чтобы твой замысел, ты как-то его донес до зрителей, вот здесь бывает очень как-то дискомфортно и душе, и телу.
— И как вы с этим боретесь?
— Только лишь терпением, терпением. И так думаю: ну что, пока я не умираю с голоду, не буду браться ни за какие другие телесериалы, мыло, которые мне предлагают, которые не мое, не по душе, не по сердцу. Просто будет стыдно, когда внуки будут смотреть, что ты сделал ради денег.
— Интересно, это для вас как критерий такой, что внуки будут смотреть?
— А как же, а как иначе. Поэтому видите, у меня перерывы между фильмами два-три года, это очень много при моем-то возрасте, уже хорошо бы сократить, но не получается.
—Николай Николаевич, про кино еще хочу вас спросить тоже: советский кинематограф — мне кажется, что вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это было кино, которое давало надежду. Искусство, которое давало надежду, возвышало, призывало к чему-то. А про современный отечественный кинематограф так говорят сильно реже. Вы согласны с этим? Было что-то такое в советском кино?
— Знаете, я не очень согласен с этим, вот почему: потому что советское кино, мне кажется, в основном было мифотворчество.
— Ну это ж мистификация, вы сами…
— Это ж все были сказки, сказки, которые, может быть… нет, они просто отвлекали, может быть, развлекали тоже, как и сейчас. Но это были сказки… или такие, сугубо идеологизированные, пропагандистские. Я иногда смотрю какие-то каналы, вижу те фильмы, которые ну не надо показывать.
— А почему?
— Потому что это все вранье. Это типа «Падения Берлина» — знаете, показывают. Это вдохновляло, мы победители. Но это все выдумка. Вот у Германа это не выдумка: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны». Или у Климова: «Иди и смотри» —вот что надо показывать. Восемьдесят процентов фильмов о войне, да и вообще, не только о войне, какие-нибудь «Кубанские казаки» — ну зачем их показывать, это может быть в Госфильмофонде для студентов, редакторов, киноведов, пускай изучают, как было. Поэтому тут я бы с вами не согласился, что они на что-то воодушевляли: нет — развлекали, отвлекали, может быть, от того, какая жизнь, что вокруг делалось после войны, до войны, в тридцатых годах, отвлекли, это да. Это что касается советского кино, я бы так сказал. Я вообще бы пересмотрел программу ВГИКа, там много тоже того изучают, что уже изучать совсем не обязательно. Надо изучать какие-то отдельные — да, были какие-то работы, я уже назвал их, было десяток, а не сотни, которые еще сейчас показывают разные каналы, они их еще используют не знаю, для чего. Ну так: смотрят? Смотрят. А что касается сегодняшнего зрителя, у нас больше, конечно, упор идет на развлечения или на фильмы, далекие от реальной жизни.
— Я хотел сказать: меньше-то не стало этого.
— Не стало, да. Абсолютно далекие от реальной жизни. А потому что тут уже хозяин — рубль. Рейтинг на телевидении, алчность наших руководителей каналов, рейтинг — это раз. А в кинопрокате это тоже: бокс-офис.

— Надежду должно давать, то есть свет в конце тоннеля должен быть. Это тогда о сегодняшней жизни, пускай самой сложной, самой тяжелой, но конечно… во всех моих картинах у меня есть в финале какое-то… место для вздоха, что ли или для выдоха. У нас такие картины есть, но их очень мало. Они есть, такие картины. Вот я недавно посмотрел картину, может быть, вы слышали о ней: «Дылда». Очень депрессивная, а сделано мастерски, мастерски сделано. Она за границей даже идет, была в Каннах. Но очень депрессивная. А вот картина «Война Анны» — вот это тоже война, но замечательная картина, вот посмотрите. Там финал такой светлый, вот просто свет один. Хотя о любви и о войне, там во время войны происходит дело, «Война Анны». Я вам назвал две картины, которые сейчас можно назвать — авторское кино, авторское. Они в прокате ничего не соберут. Но смотреть их надо зоркому зрителю.
— Николай Николаевич, а вот смотрите, еще такой момент любопытный, где-то дискуссия даже была по этому поводу, я встречал: советское кино при этом, оно входило в речь. Мы говорили цитатами из многих фильмов, и все знали, это была часть культурного кода: ты понимал, о чем речь, что это из такой комедии, это оттуда. Сейчас тут проанализировал: практически нет фильмов — правда, после 91-го года, 92-го, — которые бы вошли в нашу речь так, чтобы всем было понятно. Конечно, что там, почти нет, один-два фильма называют. На это, правда, я встречал возражения, что это не обязательно означает, что фильмы изменились, а в принципе изменилась жизнь, появился Интернет, вырос сильно разрыв между поколениями, и уже так не склеивается: старшие смотрят свои фильмы. Вот вы что думаете по этому поводу?
— Я с этим согласен, что просто язык уже идет из Интернета.
— Язык новый?
— Для молодежи. Конечно, безусловно. Я слышал своих детей, а сейчас слышу внуков, конечно, оттуда. А тогда только с экрана.
— То есть это не свидетельство о каком-то выдающемся, так сказать, кинематографе?
— Да нет, конечно. Отец мой снял фильм «Дело «пестрых»». И там снимался Пуговкин, оттуда пошла фраза: «МУР есть МУР» или там: «Советую признаться. — Советуй другим, которые помоложе, а я уже битый» — какие-то такие фразы я помню, потому что картина отца. Конечно, откуда — только оттуда. А сейчас из Интернета идет такая…и, главное, такой язык, такая тарабарщина, которую я не понимаю: лайки, шмайки, пост, запости, загугли, подгугли — ну что это такое? Мне это, конечно, не близко. Но, тем не менее двадцать первый век, он как бы идет, идет, идет, что поделаешь.
— Вам как кажется: в этом есть некий показатель качества, когда фразы из фильмов, они становятся частью языка?
— Не обязательно.
— Не обязательно.
— Вы у Тарковского ни одну фразу не вспомните, кроме стихов Арсения, конечно, в «Зеркале» — это уже другое дело, но вы же не вспомните, от этого картина хуже не становится. Нет, это не показатель.
— Но какие-то вещи врезаются в память. Когда в «Монахе и бесе»: был у нас один, который… как же там, я сейчас точно не вспомню, он говорит: правда, гладил замысловато или что-то такое.
— Там не только это. Там: «Не пьют только на небеси, а на Руси — кому не поднеси», там много, но там уже изначально это были…
— Сознательные.
— …сознательно мы вставили такие фразочки, такие поговорочки, что ли, изначально. Поэтому они как-то зацепили, да. Ну что, от этого фильм не стал лучше или хуже, это не критерий, что — о, какие фразы, какой хороший фильм. Конечно, не на этом фильм держится. Это добавляет персонажам, да, это, конечно, добавляет — именно этому фильму, как-то органично.
ТЕРПЕНИЕ
— «Терпение» — у нас следующая тема, и я хочу вот с чего начать: был такой эпизод, вы рассказывали о нем, когда вы снимали «Монах и бес», там вдруг вышли какие-то прихожане — возле монастыря где-то снимали, и они стали возражать. И вам позвонил владыка местный, попросил воздержаться, чтобы людей как-то не расстраивать, вот они возмущаются. А вот ваша внутренняя реакция — она какая была: вам тяжело это было терпеть?— Вы знаете, нет, ну что ж тут делать-то. Понимаете, почему: они не читали сценарий, они ничего не знали. Название «Монах и бес» — что такое, что там?
— Все. Конец фильма.
— Это как раз был владыка Игнатий. И он-то знал, что там все нормально. Но он мне сказал: «Николай Николаевич, все-таки поищите лучше в другом месте». И я его понял, говорю: «Владыка, ну конечно, ну что же мы будем…» — «Они же вам просто сорвут съемку, ну придут…» И я говорю: «Да, они могут просто сорвать, приедет сто человек народа, они просто выйдут и сорвут». Я их понимаю. Но это не от их невежества. Хотя, может быть, отчасти чуть-чуть и от этого, но все-таки от того, что это название, самой название картины, мне кажется, их как-то покоробило. Называлось бы это какой-нибудь «Светлый ангел» картина…
— Или просто «Монах».
— Ну или просто «Монах» хотя бы, я не знаю. Поэтому нет, тут я отнесся с пониманием и терпением, и мы снимали в другом месте.

— Это мне передали потом, он это без меня говорил.
— Смотрю или вижу, или знаю, что-то такое.
— Потом он посмотрел картину. Потому что он мне вручил награду — Николая, орден Николая. Он мне вручил: Николаю — Николая. Это мне уже потом сказали, да.
— Ну замечательный, конечно, такой монашеский ответ.
— Да, наверное, так и есть. Вспомните, когда вы устраивали в каком-то пансионате просмотр, и когда я сидел смотрел, а со мной сидел один из…
— Да, фестиваль у нас был, кто-то из делегатов, наверное.
— …священник один из делегации, по-моему, из другого города. И там во время разговора, когда он диктует письмо владыке, куда-то там наверх говорит: ну тогда вычеркиваю, ну тогда вычеркиваю — смех в зале стоял просто… ни на одном просмотре, просто смех. И он мне наклонился, говорит: это смотрят профессионалы.
— Высокая оценка. Николай Николаевич, а вот если все-таки серьезная такая тема: понятно, что этот эпизод — вам позвонили, все всё поняли, вы снимали в другом месте, но смотрите: есть, мне кажется, две темы, очень похожие и чрезвычайно деликатные — это национальная и религиозная, с которыми очень осторожно надо обращаться. Вот для вас лично, если вы снимаете кино, где есть эти темы, так или иначе присутствуют — есть какие-то табу: вот вы этого делать не будете?
— Конечно есть. Я не могу вспомнить пример, потому что просто, видно, я шел по правильной дорожке. У меня не было такого, даже в сценарии, видно, уже было так все выстроено…
— То есть, вы понимаете, что это такая непростая?..
— Не было такого. У меня, опять же, если говорить, был такой неофициальный консультант — это игумен Игнатий. Тоже с Вологодчины, он сначала был в Кирилло-Белозерском, потом в Прилуцком, сейчас он в другом месте. Он читал сценарий, и он мне… я не помню, может быть, он что-то мне… нет, он мне ничего не указал. Я просил: вы скажите, если что-то где-то я…
— Я помню, по «Расколу» мы с вами работали, помните, тогда какие-то были…
— Да. Поэтому нет, у меня такого не было, я бы, конечно, это вырезал, я бы не стал, это надо очень четко соблюдать и чувствовать, чтобы тут не ранить душу верующего, глубоко верующего человека, понимаете, здесь очень надо аккуратно. За этим я слежу, и у меня, слава Богу, не было даже такой дилеммы, что ли, изначально.
— То есть у вас нет темы, что свобода художника?..
— Ничего подобного, какая свобода художника, если ты берешься за такую тему, тут уже ты себя должен держать. Свобода художника — это когда ты выбираешь что-то: тему, сюжет. А уже когда ты выбрал именно такую тему, то тут уже смотри о частностях, что ли, каких-то.
— Тогда более широкий вопрос из серии, может быть, не самых приятных: если мы возьмем историческую тему. Вот «Штрафбат». Ведь разная была реакция. В том числе, насколько я помню, ветеранских сообществ?
— Да.
— Как вы это терпели, переживали? Я понимаю, что у вас там были, что вы изучали много всего и прочее. Но понятно, что была реакция людей: «мы воевали, этого не было». Как с этим быть?
— Могу сказать так: скорее даже не штрафников реакция. У нас сначала посмотрел один штрафник, его сейчас нет в живых уже. Вообще, изначально я, когда прочитал сценарий, я сказал Эдику Володарскому: «Эдик, тут многое не по уставу». Я человек дотошный, я стал копаться, много не по уставу: разжалованный не может быть штрафбатом, 58-я не может и так далее. На что мне Эдик сказал: «Коля, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Потому что это был как раз самый пик жуткого нашего отступления. Сорок второй год вообще был самый ужасный, поэтому здесь столько было отклонений от устава. Поэтому если мы хотим делать художественное кино — давай делать». Я подумал: у меня отец воевал, был в плену, вернулся, слава Богу, его не посадили, просто ему не дали снимать самостоятельно, он работал вторым режиссером, пока Сталин не умер. Но это уже другая тема. И вот я решил все-таки: да, будем делать кино. И когда мы сделали кино, один штрафник сказал: «Ребята, у вас, вы поднаврали в частностях, поднаврали в уставных делах, но вы не соврали в главном: что и штрафники вложили не один кирпичик в этот огромный фундамент под названием победа».

— Это ужасно. Это, я считаю, большой минус фильмов: и про баскетболистов, и про Харламова — тоже были возражения.
— А что делать, не снимать, что ли?
— Я считаю: значит, да, не снимайте или снимайте все-таки так, как было на самом деле, тем более живы люди.
— Николай Николаевич, ну сколько, десять людей одну и ту же историю вам расскажут по-разному.
— Нет, сейчас будет фильм про Яшина. Я как раз считаю, что это большой минус и баскетболистов, и хоккеистов. Надо снимать все-таки по правде, как было. Здесь уж… Вот у меня в «Штрафбате» вымышленные герои, вымышленные, поэтому можно. «Монах и бес» — вымышленные герои, поэтому можно, уж коль они вымышленные, но там мы шли за историей все-таки, вот там мы шли за историей.
— Чем тогда документальный фильм про Харламова должен отличаться от художественного?
— А зачем? Если снимаете документальный фильм про Харламова, а про хоккей напишите сценарий художественного кино, но не про Харламова. Измените фамилию, я не знаю, измените его биографию.
— Кстати, баскетболисты-то, они поменяли там, у тренера поменяли фамилию.
— Поменяли фамилию? Но все равно было сколько на них нападок. Мне кажется, что про живых героев, в смысле — про настоящих персонажей надо очень аккуратно и осторожно относиться к этому, на уровне сценария уже, ну как это?
— Еще про терпение — вы уже начали про это говорить, что сколько — четыре года вы искали финансирование на «Монах и бес»?
— Да.
— И сейчас этот замечательный сценарий про Александра Первого, эту историю, и старца Федора Кузьмича. И вы сказали, где-то я прочитал, что буду ждать, отказывать. Это же тяжело — терпеть? Я сценарий прочитал, думаю: эх! Надо завтра начинать снимать.
— Знаете, тяжело терпеть, конечно. Даже не столько… я даже не говорю — материально, а сколько психологически: безделье, не работаешь, а знаешь, уже фильм снимаешь, фильм наполовину снят, кастинг уже есть, представляешь, каких артистов, думаешь, где снять, — вот это тяжело. Вот это да. Вот тут должно быть терпение. Мне жена говорит: «Коля, если ты хочешь снять, значит, надо терпеть». И вот теперь все отложилось на будущий год, ну что. А должны были в девятнадцатом делать уже, начать снимать, запуститься, теперь в двадцатом.
— А что вообще вам тяжелее всего в жизни терпеть?
— Наверное, безработицу вот эту. Ожидание, когда уже есть сценарий, когда уже есть все, когда вот тут уже (показывает на голову), как говорится, фильм снят, осталось его только запечатлеть, раньше говорили — на пленку, теперь на цифру, — вот это тяжело терпеть, это да. Если говорить о внутреннем терпении таком.
— А так вообще вы терпеливый человек?
— Не знаю, когда делают укол, я так отворачиваюсь. Чтобы не смотреть, как меня колют.
ПРОЩЕНИЕ
— Как вы думаете, а вот ваша профессия чего не прощает, что для режиссера непростительно?— Вообще, я чем дольше живу, тем думаю, что прощать надо все — надо. Я бы не прощал ложь. Ложь и предательство. Это как бы они очень близки.
— Вообще? Потому что я-то имел в виду в том числе и в профессии.
— А, в профессии — ну то же самое: ложь и предательство, это даже и в профессии, и в жизни. Пожалуй, эти два качества вот таких, два проступка, которые трудно простить.
— А вот вы сейчас говорите от представления или от жизненного опыта? То есть у вас были случаи, которые вы оцениваете, как вас кто-то предал?
— Скорее была ложь, так если по жизни, сейчас я так не помню. Но предательство тоже, по-моему, было. Я сейчас так не могу вспомнить, может быть, это я больше сейчас теоретизирую, чтобы так…

— Да, пофилософствовать, что бы я думал: ложь и предательство. И дальше иду философствовать, думаю: вообще-то надо все прощать, по идее-то. По каким-то заветам и канонам — надо все прощать.
— Но что считать предательством: кастинг у вас сложился, вы актера, допустим, пригласили, вам он очень нужен, а потом он звонит, говорит: извините.
— У меня была такая история на «Монахе и бесе».
— Вот вам пожалуйста.
— Вот предательство.
— Это предательство?
— Да, это предательство, конечно. Это не ложь, это предательство.
— Человек вам пообещал.
— У меня было такое с главным героем, я не буду называть фамилию известного артиста, который должен был играть монаха, была такая история. Но тем не менее, если я его встречу, я с ним поздороваюсь.
— То есть у вас нет, вы простили его?
— Как сказать… Простил, но не забыл.
— То есть вы его не позовете больше?
—Думаю, нет. Руку подам, но, думаю, не позову. Думаю, что нет. Поэтому это и есть предательство, которое трудно, вот вы спросили — трудно, вот это трудно, да, не позову.
— А на площадке актерам вы, как режиссер, чего им не прощаете?
— На площадке я уже актеру все прощаю, потому что мне нужен результат. Но если он совсем падает от пьянства и его уносят, тогда, конечно, это сложно.
— А бывает такое?
— Такого я сейчас не припомню все-таки. У меня были артисты пьющие, но на съемке они были нормальные. Но тут я должен прощать, потому что мне надо снимать картину, ну как. Унесут его, а на другой день приведут трезвым. У меня, даже не припомню, чтобы у меня было такое, но в принципе такое бывает, такое может быть — тут я прощу.
— А если он начинает творчески что-то там предлагать?
— Ну это уже совсем другое дело, здесь мы с ним…
— Но вы спокойно относитесь к инициативе?
— Мы на берегу договариваемся, что Вася, Петя, Митя, мы можем спорить о чем угодно, но последнее слово за мной. Ты не обижайся, я могу все выслушать, но делать будем. Потому что я считаю, что профессия режиссера — это авторитарная профессия, авторитарная. Раньше была тоталитарная, но появился институт продюсеров, поэтому она стала авторитарная. Тут уж, конечно, все в моих руках, и я все-таки снимаю то, что я чувствую, но выслушиваю всех, и актера тоже, иногда соглашаюсь, но если я не соглашаюсь, то он с этим согласится, с моим несогласием. Потому что мы договорились на берегу об этом.
— А вот этот авторитаризм профессиональный — он в непрофессиональную жизнь переходит?
— К сожалению, иногда. Об этом моя жена мне всегда напоминает. К сожалению, да.
— Что вы не на площадке.
— Совершенно верно. Да, Владимир Романович, я стараюсь быть в семье, дома, иногда получается, иногда нет.
ЛЮБОВЬ
— Давайте про любовь поговорим, у нас следующая тема — «Любовь». Вы говорили неоднократно, что «Монах и бес» —это фильм о любви, и объясняли это.— Да.
— Но смотрите, в каком-то смысле, любовь — такое понятие, что… и про много других ваших фильмов можно сказать, что это фильмы о любви, и в каком-то смысле, наверное, многие режиссеры согласятся, что они снимают о любви, кто-то может сказать: вроде это не про любовь, но показывая нелюбовь, мы тоже говорим о любви. Иными словами, про любой фильм, наверное, при желании можно сказать, что это фильм о любви. Когда вы говорили про «Монах и бес», вы что именно имели в виду?
— Да у меня почти все фильмы про любовь.
— Вот-вот. Я вам про это и говорю.
— Как это ни пафосно звучит, но даже «Штрафбат» про любовь к Родине, тоже и так можно сказать. Про любовь к Родине. И это там очень так четко чувствуется. И здесь тоже. Я еще, кстати, привожу такую маленькую притчу, когда у меня спрашивают, про что картина, про любовь. Маленькую притчу: когда монах после трудов праведных устал, изнемогает, просто еле-еле добрел до своей кельи. Зашел, видит: на лавке черт лежит, прямо самый настоящий черт, и даже вроде храпит. С рогами. Монах думает: надо же, тоже ведь, небось, устал, бедолага, от своих трудов неправедных. И спокойненько лег под лавочку. И как только он лег под лавочку — бес пулей вылетел из кельи. Вот притча, которая… про что это — про любовь. Даже вот так. «Монах и бес» об этом тоже, как мне кажется.
— А значит ли это, что в каком-то смысле…
— Может, я заблуждаюсь, может, кто-то иначе понимает, мне кажется, что эта притча уместна здесь, к нашему фильму применима.

— В общем-то — да, почему нет: к человеку, окружающему миру, к близкому, к дальнему. Вся жизнь про любовь должна быть. А вера — разве это не про любовь? Там, туда или сюда… так мне кажется, может, звучит философично и очень так это возвышенно, но, возможно, это так и есть.
— А как вы думаете, какие у человека неправильные представления о любви есть распространенные? Какие ошибки в наших представлениях о любви?
— Ошибки опять, если ты не можешь почувствовать… как сказать: если ты не можешь найти своего человека, которому ты уже просто будешь верен и с которым ты можешь жить до конца дней своих. Я вот это почувствовал, но тоже, может, не сразу. Трудно сказать. Без любви очень как-то грустно, одиноко и безысходно жить, мне кажется. Все построено на этом, все построено… в человеческих отношениях — мужчины и женщины. И в работе, и творчестве, во всем.
— Кстати…
— Даже педагоги — ведь вы же с любовью относитесь к своим студентам, ведь вы же их любите? Даже какого-нибудь самого отсталого двоечника и того, шалопая…
— Особая любовь.
— Особая, но все же: ну ты, Дурмолай Иваныч, давай берись за ум-то, пора. Сколько уже — уже двадцать два, двадцать пять, давай. Так мне кажется.
— А может быть хороший режиссер, который не любит актеров? Можно быть хорошим режиссером и не любить актеров?
— Вот мне кажется — нет. Я не знаю. Может быть, такие были и есть…
— Но вам не попадались?
— Мне не попадались. Мне кажется, что актеров надо любить, любых, то есть, тех, кого ты пригласил. Если уж ты кого-то там не любишь, если так можно сказать, ну не приглашай их, сторонись. Но уж если ты кого пригласил, и они согласились, и у тебя работают — ну как тогда? Я говорю, что у меня в съемочной группе я могу на любого иногда накричать, кроме артистов, которые у меня в кадре. Операторы, художники, тут это как бы… но актер…
— Не везет бедным операторам. (Смеется.)
—А вот смотрите: у вас есть любимые актеры, конечно, это даже по фильмам видно, кого вы приглашаете. А была такая ситуация, когда есть у вас сценарий и актер, которого вы любите, знает и, допустим, он предлагает: давайте я? А вы понимаете, что нет. Откажете?
— Конечно. У меня так оно и бывает. Несмотря на то, что любимый, у меня все-таки есть сценарий и я вижу, годится мой любимый или не годится. Если не годится — конечно, я его не приглашу ради того, что он просто любимый. Нет, здесь у меня четкое чутье, кто лучше эту роль сыграет. Совсем, может, неизвестный артист, для меня незнакомый или знакомый. И поэтому если я вижу, что совсем незнакомый, — конечно, он.
— А это приводило к каким-то сложным ситуациям в отношениях или вы можете убедить актера?
— Нет. Вот я сейчас говорил с Сережей Баталовым, такой есть артист, Ира Розанова — они у меня снимались давно, много. Они говорят: на нас-то будет что-нибудь? Я говорю: Сережа, не могу обещать, а то вдруг не будет, и вы на меня потом будете обижаться. Я никому ничего не обещаю из тех артистов, которые, может, мои любимые, никогда.
— А вот это самое развлекательное кино, про которое мы с вами говорили, потому что все, что вы сейчас называете, это то, что принято называть авторским. А вот развлекательное кино может быть про любовь?
— Развлекательное может быть только про любовь-морковь. Я бы не сказал, что это про настоящую любовь. Это так, развод — соединение, опять развод, опять соединение, это какая-то пляска на любви, вот так бы я назвал… развлекательное. Хотя не знаю, может быть, и можно, не знаю. Нет, вот фильм-то «Как стать миллионером», который фильм был такой индийского режиссера, только я забыл, как он назывался.
— «Миллионер из трущоб».
— А, «Миллионер из трущоб» — вот про любовь, да. Про любовь — и развлекательное кино. Так что нет, наверное, может быть.
— И Оскара дали.
— Да, и Оскара дали, но это как бы исключение из правил скорее. Ну, по крайней мере, да. Такие фильмы бывают, да, да, да. И Оскар получил, и не один, по-моему.
— В финале я вас хочу попросить поставить точку или запятую в одном предложении, но вот в какой ситуации…
— У меня любимый знак препинания — это многоточие, вообще.
— Посмотрим, как вы тут…
— Я, когда пишу, я многоточие: ну как бы — жизнь продолжается.
— Да? Ну вот давайте посмотрим, здесь удастся вам поставить многоточие или нет. Вы сняли «Монах и бес», там, понятно, персонаж такой — бес, специфический и это очень драматургически выигрышно, конфликт и прочее. Но представьте, что вам предлагают сценарий фильма про, как Достоевский говорил, «положительно прекрасного человека», там нет такого изначального конфликта, как, очевидно, есть в «Монахе и бесе». В предложении «снимать нельзя отказаться» вы где поставите знак препинания?
— Положительно прекрасного?
— Да, вот положительно прекрасный человек, сделать хороший фильм про положительно…
— Снимать нельзя.
— Нельзя?
— Запятая — отказаться.
— Многоточие.
— Совершенно верно.
— Спасибо огромное.
— Спасибо большое. Это был человек, который нигде не работает, а снимает кино, Николай Николаевич Досталь. А мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.
Фото Владимира Ештокина