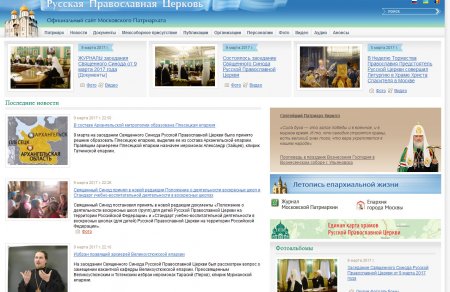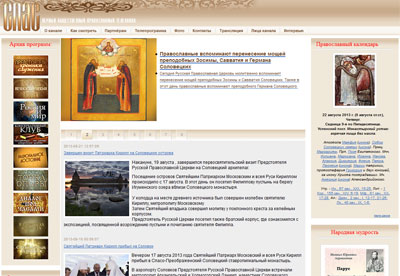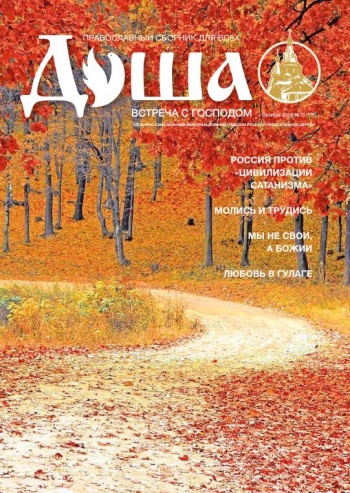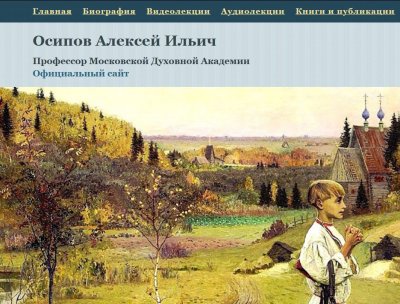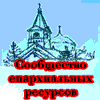«Дай мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько» — читаем мы в Покаянном каноне. Но как это сочетается с призывом апостола ПавлаРадуйтесь всегда в Господе (Фил. 4, 4)? Как она возможна, эта радость, если у тебя в прошлом своя, условно говоря, Елизавета, да еще и не одна?
 — Отец Нектарий, так к чему же мы все-таки призваны — к радости или к плачу о том, что мы натворили, к скорби о наших грехах? Или к тому и другому вместе? А как это совместить?
— Отец Нектарий, так к чему же мы все-таки призваны — к радости или к плачу о том, что мы натворили, к скорби о наших грехах? Или к тому и другому вместе? А как это совместить?
— Мы призваны ко многому: и к плачу, и к глубокому сердечному покаянию, и к самообвинению. И в то же время — к миру и покою, путь к которому лежит через все то, о чем мы сказали сейчас. Но все это на самом деле вторично. А главное, к чему мы призваны, — изменить самих себя, преодолеть в себе то, что мешает нам быть с Богом, встает между нами и Им. Покаяние у разных людей протекает по-разному, но важнейший смысл его — не в том, много или мало мы будем мучиться, а в том, изменим мы себя или нет.
Имеет ли Раскольников после совершенного им убийства право на душевный мир и радость? Во-первых, слово «право» здесь вообще неуместно. Это не вопрос права. Это вопрос именно внутреннего изменения, произошедшего в человеке. Ведь не будет ошибкой сказать, что старуху-процентщицу убил один человек, а мир и покой обрел другой.
А что касается того недоброго дела, которое человек до своего изменения совершил… Понимаете, с одной стороны, все наши действия влекут за собой последствия, и мы действительно в ответе за них. С другой стороны, мир — это очень сложная ткань, состоящая из множества нитей, узелков, каких-то узоров… И не надо считать, что только от нашего произвола все зависит, что одно только наше деяние определяет чью-то судьбу. Ведь о каждом человеке есть еще и Божий Промысл, и Божий суд, и все это вместе складывается в единую огромную картину. Не имел, конечно, права Раскольников убивать старуху-процентщицу, не имеет права ни один человек решать вопрос, кому жить, а кому умирать. Но, с другой стороны, и за счет других богатеть человек тоже не имеет права. Эта старая женщина, она ведь очень много за свою жизнь сотворила зла. Мы видим ее собственную смерть, а сколько людей, может быть, попав в ее цепкие лапы, наложило на себя руки, вышло на панель, а кто-то, может быть, убил кого-то, ограбил, чтобы вернуть ей этот долг… Я думаю, таких судеб, сломанных по ее вине, множество.
— А как же быть с Елизаветой, которая страдала от той же злой старухи, а сама, как пишет Достоевский, «до того (…) была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо…»?
— Люди неверующие, далекие от христианства, вменяют христианству в вину то, что «из-за Христа» были избиты 14 тысяч вифлеемских младенцев. А мы верим, что каждая судьба в руках Божиих. Да, эти дети были избиты злодейски, преступно, но Господь не лишил их за это мзды. Господь всегда вознаграждает того, кто за Него пострадал. И в этом действует какое-то удивительное равновесие. И старухе-процентщице за ее страшный конец что-то, может быть, простилось. Но она и так стояла на пороге смерти. А кроткой, смиренной Елизавете Господь, может быть, гораздо больше дал за ее мученическую кончину.
 Конечно, я очень примитивно пытаюсь это оценить и объяснить — с позиций ограниченного человеческого рассуждения. А вообще, это, на самом деле, гораздо глубже, гораздо тоньше и гораздо многограннее. Мы видим лишь крохотный кружок и то, что в этом кружке происходит. А кружок расширяется до целого мира, и в этом мире происходит непрестанное взаимодействие между обстоятельствами, ситуациями, людьми, человеческими реакциями, и всё со всем находится в какой-то связи. И целостную картину, как она есть, видит только Господь. А в этой картине причиненное одним человеком другому зло может оказаться благом. У Марка Подвижника есть такие слова: «Содействует злое благому намерением неблагим». И это постоянно происходит в нашей жизни.
Конечно, я очень примитивно пытаюсь это оценить и объяснить — с позиций ограниченного человеческого рассуждения. А вообще, это, на самом деле, гораздо глубже, гораздо тоньше и гораздо многограннее. Мы видим лишь крохотный кружок и то, что в этом кружке происходит. А кружок расширяется до целого мира, и в этом мире происходит непрестанное взаимодействие между обстоятельствами, ситуациями, людьми, человеческими реакциями, и всё со всем находится в какой-то связи. И целостную картину, как она есть, видит только Господь. А в этой картине причиненное одним человеком другому зло может оказаться благом. У Марка Подвижника есть такие слова: «Содействует злое благому намерением неблагим». И это постоянно происходит в нашей жизни.
Понимаете, ведь все в Господних руках. Он все может изменить, все абсолютно исправить. Это нам, людям, кажется, что сделанное нами непоправимо. Но для Бога поправимо абсолютно все, потому что Он — Бог и Царь не только земной нашей жизни, но и жизни вечной. Даже в первую очередь вечной, и именно поэтому все у Него поправимо. Он может воздать тому, кого мы здесь чего-то лишили. Он может исправить то, что мы испортили. И поэтому самое главное для нас — это наше примирение с Ним. Но это примирение становится возможным лишь тогда, конечно, когда в нас происходят перемены. И потому я еще раз скажу, что нет такой у нас цели — всю жизнь только плакать о грехах, есть цель измениться, а тот плач, о котором сказано в Покаянном каноне, — это лишь путь к изменению через горькие слезы.
— Стало быть, в какой-то момент человек может перестать горевать и ощутить, наконец, радость? А что это за момент, как и когда он наступает?
— Перемена к человеку приходит через покаяние, через его труд, но в конечном итоге она совершается только благодатию Божией, которая увенчивает труды человека, которая человека, выполнившего уже всю свою человеческую работу, наконец, изменяет. Вот она-то и дает возможность испытывать мир и покой. Но в определенном смысле и изменившемуся человеку тоже нужно плакать — для того чтобы не начать движение назад. Святые отцы говорят о том, что есть горький плач о грехах, а есть плач радостворный, когда человек вроде бы тоже плачет о грехах, но он уже испытывает не горечь, а радость и легкость. Этот плач можно сравнить со слезами ребенка — расстроенного, обидевшегося, даже наказанного, может быть, но уже прощенного, утешенного, приласканного взрослыми. Все уже хорошо, все позади, но ребенок продолжает плакать как бы по инерции, и эти слезы его, они, может быть, даже светлее, чем улыбка и чем радость. То же самое и со взрослым человеком происходит в покаянии: плач мира и покоя, ощущения примиренности с Богом.
Подлинное покаяние, изменив человека, открывает перед ним совершенно другую жизнь. Но, если человек не изменится, все, что он делал прежде, его нагонит.
 — Но ведь оно может нагнать и раскаявшегося…
— Но ведь оно может нагнать и раскаявшегося…
— Изменившегося человека прошлое может догнать, но… оно совсем другого человека догонит на самом деле. Вспомним житие преподобного Моисея Мурина. Он был разбойником, он убивал людей. Впоследствии принял монашество и даже, вопреки каноническим правилам, был рукоположен в священный сан. Те, кто принимал такое решение, знали, конечно, что по канону человек, лишивший жизни другого человека, если только это было не на войне, не может стать священником. И они не пренебрегали каноном. Но у них была особая причина: они что-то такое усмотрели в этом раскаявшемся разбойнике, что пошли на это. И как же закончился земной путь преподобного Моисея? Ожидалось нападение разбойников на монастырь, и он велел всем уходить и прятаться, а сам остался: «Я много лет жду, когда надо мной совершится сказанное Господом: все, взявшие меч, от меча и погибнут». Но очевидно, что в душе преподобного царил мир. И потому этот его конец нельзя воспринимать как расплату, кару за его прежние грехи.
— Вы говорите — к радости через скорбь и труд… Через какой же труд? В книге «Лествица» есть страшная глава — «Темница», ее невозможно читать… И возникает мысль: если эти люди считали необходимым каяться таким вот жестоким способом, то что же тогда значит наше жалкое покаяние?.. А может быть, они просто не верили в милосердие Бога?
— Да, в книге преподобного Иоанна Лествичника мы читаем о темнице, в которую добровольно себя водворяли и мучили там себя монахи, в чем-то согрешившие, и мучили зачастую до самой смерти. Но сам Лествичник говорит, что это не единственный вид покаяния, и что они шли на это совершенно добровольно. Что каждый человек, который совершил тяжкие грехи, непременно должен себя замучить до смерти — это ложное представление. Эти люди просто брали на себя гораздо больше, чем должен взять человек. Человек должен измениться. А их душа не удовлетворялась и этим. Ну, знаете, вот один человек постом воздерживается от скоромной пищи, а другой весь пост проводит в сухоядении, а третий ест через день, а четвертый ест только по субботам и воскресеньям. Не потому, что не верит в милосердие Божие, а потому, что его душа не насыщается тем утеснением плоти, которое есть в обычном, так сказать, посте. Однако мера поста, подвига должна соответствовать мере духовной, да и физическим силам человека тоже.
— Однажды я сказала на исповеди о своем давнем грехе против ближнего. И священник, которому, видимо, стало меня жалко, сказал мне: «Бог вам это простил». И тут из меня чуть не вырвалась фраза — может быть, кощунственная: «Верю, что простил, но мне от этого ничуть не легче». Получается, что я в своем раскаянии закрываюсь, замыкаюсь от Господа и Его прощения и сужу себя сама… Это ведь неправильно?
— Здесь важно разобраться, от чего именно вам так тяжело. Зачастую тяжело бывает на самом деле не от боли за других людей, пострадавших от нас, а от того, что мы не готовы увидеть себя такими, как есть, и принять этот факт. Ведь только лишь с принятием этого факта и с пониманием того, каков ты есть, начинается какое-то изменение в человеке. Пока человек думает о себе лучше, чем он есть на самом деле, ему очень сложно измениться. Христианская жизнь начинается с состояния мытаря, который ничего в себе хорошего не видит, не смеет воззреть на Небо, стоит позади всех, считает себя хуже всех (см.: Лк. 18, 13). В идеале должно было быть так, что человек в этом состоянии приходит в храм и с этого начинается его путь к спасению: то восхождение, которое совершается через постоянное нисхождение — вниз, в глубину. Сначала видение своих грехов и своего ничтожества, а потом — глубина смирения. Погружение в глубину смирения означает восхождение к Небу. Это парадокс — через движение вниз происходит движение вверх.
Тот же, кто рвется вверх, на самом деле сползает вниз. Такой человек мучается от того, что хочет видеть себя хорошим, а он, оказывается, очень плох. Он хотел бы, чтобы люди думали о нем хорошо, а у людей, оказывается, нет никаких для этого оснований. И когда этот человек оказывается перед фактом своей вины, страшной, непоправимой, он воспринимает это как свою личную катастрофу. В определенном смысле это действительно катастрофа, трагедия. Из-за этого душа наша может погибнуть, если мы не покаемся, не изменимся. Но на самом деле в этой вине, в этом поступке проявилась, может быть, миллионная часть того, что в нас заключено. Мы страдаем от того, что у нас в одной комнате вдруг обнаружился какой-то беспорядок и другие люди его увидели, а у нас на самом деле вообще никакого порядка нигде нет. А когда ты себя самого считаешь какой-то ветошью, которую только из милости не выкидывают на помойку, тогда какие-то отдельные прегрешения станут для тебя поводом для сокрушения, покаяния и исправления, но не поводом для уныния. Уныние и печаль говорят о потребности гордиться собой, видеть себя без черных пятен; это происходит от того, что мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле.
Но вот что самое главное. Эта болезненная неспособность себя простить, даже тогда, когда и духовник вам говорит, и вы сами верите, что вас Бог простил, приводит к тому, что человек не изменяется, не исправляется. Все его силы, вся его энергия обращаются на совершенно пустое занятие — на угрызение себя, на съедание себя. А для того, чтобы измениться, нужны очень большие, сконцентрированные на этом силы. В противном случае человек, мучаясь чувством вины перед другим человеком, может быть, уже покойным, продолжает делать то же по отношению к тем, кто жив и рядом с ним сегодня. Почему? Потому что он весь там, в своем прошлом, а здесь его как бы и нет, и он не отдает себе отчета в том, что он делает здесь. А пройдет какое-то время — он будет вот так же переживать из-за сегодняшних своих поступков.
Иногда ведь человек сознательно не хочет расставаться с чувством вины. Почему? Человек — существо очень тонкое и глубокое, глубже человека ничего не найдешь; и он может в своих глубинах прятать какие-то вещи, не до конца даже отдавая себе в этом отчет. Стать другим — это трудно, это мучительно. И наша совесть нас обвиняет в том, что мы не меняемся, остаемся прежними. И нам очень трудно жить, потому что мы находимся в противоборстве со своей совестью. И у нас возникает ощущение, что мы должны себя за это как-то наказать. И мы наказываем себя чувством вины, боли, стыда. Оказывается, это легче, чем меняться, и мы это предпочитаем. Очень распространенное, как ни странно, явление.
Надо жить именно сегодняшним днем. Тем более что люди, которые уже ушли, не испытывают ни обиды, ни огорчения против нас, и для них радостью становится, когда они видят, что мы меняемся, что в отношении других людей мы уже не таковы, какими оказались когда-то в отношении их. А когда мы становимся иными, мы и мир делаем немного иным, и, значит, как-то косвенно исправляем то, что сделали в этом мире неправильно. Конечно, это нельзя рассчитать с помощью какой-то формулы, как это происходит у католиков: вот сколько я сделал зла, а вот сколько добра, вот мои должные заслуги, вот сверхдолжные, вот еще немного добра мне нужно сделать, и все в порядке со мной будет… Но тем не менее в какое-то равновесие мы свою жизнь можем привести.
Парадокс заключается в том, что на этом нельзя успокоиться. Нельзя сказать: вот это я выправил, это я восполнил, теперь у меня все хорошо. Нет, конечно, это чувство общей греховности, виновности у человека остается до самого конца. И оно ему необходимо: только оно может быть залогом того, что человек не сползет назад.
 — Но может ли человек сам судить о том, изменился он или нет? Не будет ли самоуверенностью с его стороны сказать: «Всё, я уже не тот»?
— Но может ли человек сам судить о том, изменился он или нет? Не будет ли самоуверенностью с его стороны сказать: «Всё, я уже не тот»?
— Конечно, человек не может так о себе судить. Он к этому изменению идет трудным, мучительным путем. А изменение — оно приходит как некая данность, и человек просто его ощущает в какой-то момент. А до этого он мучается и страдает, безусловно. Вернемся к тому же Раскольникову, он ведь долго не обретал душевного мира и покоя — даже уже признавшись в убийстве, уже на каторге будучи, никак не обретал. И заметьте: когда он обрел, наконец, этот мир и покой, он обрел его не только в плане совершенного преступления, он обрел его в целом. Ведь он не мог спокойно жить еще задолго до того, как преступление было им совершено: он находился в страшном конфликте с собой, с миром, с Богом на самом деле. А тут он примирился со всем миром, со своей судьбой, со своей совестью, с Богом. Примирился, потому что увидел: Господь ему, невзирая на совершенное убийство, дает нечто, чего у него не было прежде. Это яркая ситуация, наглядная, и путь здесь пройден быстро, но это литература, а в жизни все происходит подчас гораздо медленнее.
— Из этого следует, что реально изменяет человека только Бог при условии его собственных встречных усилий. Иначе говоря, по мере того как человек перестает Богу мешать это делать.
— Да, ведь если мы примем, что человека изменяет только Бог, тогда возникает вопрос: почему Он не изменяет всех? И можно опять-таки все довести до абсурда и Бога обвинить в том, что Он не изменяет всех, а изменяет только некоторых. Поэтому лучше сказать так: Господь готов изменить каждого человека, и Он не просто делает для этого все, но уже сделал все для этого. Но для того, чтобы эту свою возможность использовать, человек должен трудиться, должен сам себя менять. Господь говорит: Без Меня не можете творить ничего (Ин. 15, 5). Отсюда следует, что без Бога мы не можем измениться. Но вместе с тем, если мы сами этот процесс не начнем, он и не начнется никогда, и никаких изменений с нами не произойдет.
— Значит, нам нужно трудиться над собой и ждать этого чудесного мига, когда все для нас реально изменится, и мы, наконец, ощутим мир в душе?
— Не надо этого ждать. Если этого специально ждать, то может не произойти. К этому надо идти. Не к миру, а к изменению. Мир в душе — не цель, цель — наше изменение, а мир приложится. Я тружусь, чтобы измениться, чтобы стать таким, каким меня хочет видеть Господь, и, каким будучи, я уже никому не причиню зла. Вот к чему я стремлюсь, а все остальное дело Божие: может быть, даст мне Господь ощутить этот мир и покой, а может быть, и не даст.
Здесь важно понимать, что даже и покаяние не является целью. Оно лишь необходимость или средство. Понимаете, вот еда, питание — оно ведь не цель, оно просто необходимость в нашей жизни. Так же как и сон, и воздух. И покаяние должно быть такой же неотъемлемой необходимостью, таким же средством для нашей жизни, как все перечисленное. Помню, как обмолвился в разговоре с архимандритом Кириллом (Павловым) о том, что покаяние — это содержание жизни христианина. И он как-то очень расстроился и сказал: «Нет. Покаяние — это всего лишь путь к смирению. А вот смирение действительно должно стать содержанием жизни монаха, содержанием жизни христианина».
— Почему так?
— Потому что смирение — это та добродетель, посредством которой человек более всего приближается к Богу. Так же как гордость — то, что более всего человека от Бога отдаляет. Мы откроем любой катехизис, любой учебник Закона Божия и прочитаем о том, что Бог благ, о том, что Бог вездесущ, всемогущ, всемилостив. Но это те определения, которые дает Богу богословская ученая мысль человека, мысль ограниченная, несовершенная. А что говорит Бог Сам о Себе, что говорит о Себе Христос? Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Смирение, неразрывно связанное с кротостью, — это то, что дает человеку быть с Богом. Смирение — это не просто добродетель, которую человек призван стяжать: это совершенно иной способ существования, иной образ жизни. Оно отсекает все то, что человек на себе носит как какой-то страшный груз, совершенно лишний и не дающий ему ни с людьми быть, ни с Богом. Исаак Сирин называет смирение одеянием Божества. Когда человек облекается в смирение, он облекается в Бога на самом деле. И тогда ему уже не страшно его прошлое. Вы привели пример из «Преступления и наказания», а я приведу подобный пример уже из духовной литературы — из жития и писаний преподобного Силуана Афонского. Он вспоминает о том, как когда-то, еще до монашеского пострига, только еще ступив на путь покаяния, только начав оплакивать сделанные в мирской жизни грехи, он наблюдал за человеком, жившим в соседнем селе: этот крестьянин когда-то совершил убийство, отбыл срок на каторге и вернулся домой. И на каком-то деревенском празднике пел, плясал, играл на гармошке, словом, веселился вовсю. Будущий старец Силуан к нему подошел и спросил: «Как же ты можешь так веселиться? Ведь ты человека убил!». Будущему афонскому подвижнику было очень важно получить ответ на этот вопрос. А тот человек ему ответил: «Я в этом покаялся, когда сидел в тюрьме, и Бог меня простил». Преподобный Силуан пишет: «Я на него посмотрел и понял, что это действительно так».
— Мы говорим о людях, совершавших страшные преступления, но ведь и в молитве Серафима Саровского есть такие слова: «Ищу покоя и не обретаю, потому что совесть моя не прощает меня». И в то же время преподобный Серафим для нас — олицетворение нескончаемой Пасхи: «Радость моя, Христос воскресе!».
— Да, это кажется странным: человек, который живет в ощущении собственной болезни или виновности, не будет называть других людей «радость моя». И они не будут испытывать радость, встречаясь с ним. Вместе с тем этот же самый человек может всегда, всю свою жизнь считать себя виноватым, грешным, никуда не годным и говорить, что совесть его не прощает. Не от того, что он совершает плохие поступки — он давно уже их не совершает, а от того, что он в свете благодати видит совершенство Бога и свое собственное несовершенство и недостоинство, тяготится собственной нечистотой. Ведь, как сказано в книге Иова, даже луна, и та несветла и звезды нечисты пред очами Его (25, 5). Здесь нужно просто видеть разницу между душевным человеком и духовным. Апостол Павел говорил, что душевный человек духовного не разумеет, и что одним подобает молоко, а другим — твердая пища (см.: 1 Кор. 3, 2). Преподобный Серафим — это человек, который давно перешел на твердую пищу. Потому у него это происходило совсем не так, как у нас. Его покаянное состояние не имело ничего общего с той болезненной душевной рефлексией, которая может у нас наблюдаться. А те, кто к нему приходил, кому он советовал читать эту молитву, — это ведь были самые разные люди, в том числе и те, которые сами себя давно за все простили или считали, что грех не страшен, потому что Бог все прощает — Он ведь милостив! Но на самом деле именно Бог должен сказать человеку в какой-то момент: «Я прощаю тебя». У кого-то из отцов в Патерике есть слова: «Бог оправдывает тебя до тех пор, пока ты себя обвиняешь».
— Еще до воцерковления, переживая собственную вину, я вдруг сказала себе, что буду теперь спокойнее относиться к собственному страданию от чужих грехов и к любому своему несчастью вообще, и что это будет неким если не искуплением, то уравновешиванием. Есть в этой мысли зерно истины?
— Конечно, есть. И это очень важно: в любых обстоятельствах своей жизни видеть именно епитимию. Епитимию не как наказание за грехи, а как средство к изменению. Бывает так, что человек приходит в храм и говорит священнику: «Дайте мне епитимию, поскольку я чувствую за собой вину». И священник должен исполнить его просьбу. Но наивно было бы считать, что этой епитимией в жизни человека все исчерпывается: получил епитимию, выполнил ее — и все в порядке, можно о произошедшем забыть. Настоящую епитимию человеку дает Господь. Именно Он выстраивает всю нашу жизнь таким образом, что мы можем показать, действительно ли мы хотим быть другими, действительно ли в чем-то раскаиваемся. В нашей жизни всегда много такого, что искушает, соблазняет, что, кажется, может разрушить нас, и, когда мы принимаем решение реально измениться, всего этого в нашей жизни становится еще больше. Мы воспринимаем это как препятствие, мы возмущаемся против обстоятельств и виним людей, которые нас искушают. Где-то в глубине души даже начинаем роптать на Бога. И очень, очень редко кто-то понимает, что эти обстоятельства, которые, казалось бы, усугубляют всю нашу нехорошесть и нас к ней влекут, и искушают нас, и гнетут, — это и есть тот путь, идя по которому можно действительно измениться. Потому что, лишь смирившись с тем, что это в нашей жизни есть и что все это придется преодолевать, можно стать другим — настоящим.
Более того, когда мы на кого-то обижаемся, на кого-то сердимся, кого-то в чем-то считаем виноватым, в этом каждый раз проявляется неполноценность нашего покаяния, его неискренность, его неподлинность. Кающийся не сердится. Кающийся не гневается, он не винит других ни в чем. Он принимает все это как должное, как епитимию. Бывает ведь как — мы каемся, мы говорим: «Аз прах есмь, червь есмь», — и тут появляется некто и говорит: «Да, так и есть, ты червь». — «Ах, я червь?! Ну, ты сейчас у меня попляшешь!». Сразу очевидна иллюзорность покаяния. А если мы в ответ скажем «Да, конечно» — это значит, что покаяние наше настоящее. Но это происходит очень редко. Например, святитель Тихон Задонский, который людям, которые его угнетали, обижали и чинили ему какие-то напасти, посылал елей, ладан, хлеб. А отец Кирилл (Павлов)? Когда его уже окончательно инсульт разбил, он лежал и с температурой, и с хрипами, и с болью, мучился страшно. И все вокруг него, естественно, и жалеют, и переживают, и как-то болеют сердцем за него. А он придет в себя и скажет: «Ну, чего еще я, грешный, заслуживаю. Поделом».
 — Мне кажется, многое из того, о чем мы с Вами говорили, отражено в 50-м псалме Давида, который читается и в утреннем молитвенном правиле, и в последовании ко Святому Причащению, и на 3‑м часе перед Литургией. Когда я только начинала путь воцерковления, этот псалом, с одной стороны, утешал меня, а с другой — вызывал сомнения, аналогичные тем, что возникали при чтении Достоевского. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие… Доблестный Урия убит, его жена Вирсавия совращена и опозорена, все это по вине Давида, а он хочет так вот легко — убелиться и веселиться…
— Мне кажется, многое из того, о чем мы с Вами говорили, отражено в 50-м псалме Давида, который читается и в утреннем молитвенном правиле, и в последовании ко Святому Причащению, и на 3‑м часе перед Литургией. Когда я только начинала путь воцерковления, этот псалом, с одной стороны, утешал меня, а с другой — вызывал сомнения, аналогичные тем, что возникали при чтении Достоевского. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие… Доблестный Урия убит, его жена Вирсавия совращена и опозорена, все это по вине Давида, а он хочет так вот легко — убелиться и веселиться…
— В 50-м псалме есть все, что нужно знать человеку о покаянии. Там не только плач о грехе, не только слезы, не только внутренняя боль. Это все там и есть, мы это все видим. Но там и вера в прощение, в милость Бога. А какое основание там приводится, какая причина есть у Бога Давида помиловать? Может быть, Давид говорит: «Господи, прости мне этот грех, ведь я такой великий царь, я столько сделал для Израиля»?.. Или «Помилуй меня потому, что я замечательный, талантливый человек»?.. Нет, ничего подобного мы там не найдем. Давид понимает, что нет на самом деле у него ничего такого, за что можно было бы помиловать. Единственное основание для помилования — по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. И никакого иного основания нет: се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. И вот из этого сознания, из этой, казалось бы, бездны отчаяния Давид движется дальше — через надежду, через веру, доверие к Богу, Который сердца сокрушенна и смиренна… не уничижит. Это путь восхождения. И это убежденность: Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Дерзновенная надежда: Господь всемогущ, и Он может убелить меня паче снега. Но путь к этой надежде — через боль, через страх. Это путь к тому, чтобы в какой-то момент оказаться готовым принести Богу совершенную жертву. Что это значит: Когда возложат на олтарь Твой тельцы? Это восхождение человека к такому состоянию, когда он сам станет жертвой Богу угодной, благоуханной. Псалом начинается с признания зловонных грехов, а заканчивается благовонной жертвой.
— И все же как быть с нашими Уриями, Вирсавиями, Елизаветами, с людьми, которых мы так или иначе заставили страдать? Считаете ли Вы нужным, целесообразным для человека молиться за этих людей, принудительно возвращая себя к давним уже, может быть, эпизодам? А найти этого человека через много лет, чтобы перед ним извиниться, — нужно ли это делать?
— Молитву за раненных нами людей я считаю совершенно необходимой и естественной для христианина. Если человек этого не делает, значит, он не идет тем путем, о котором мы говорили; значит, перемены в нем не происходят. Значит, он не ощущает своей ответственности за то, что он делал и делает. Да, бывают обстоятельства, в которых эта молитва может быть нежелательной и даже опасной. Например, если ты с кем-то пал, то не молись об этом человеке слишком много: молитва может обратно тебя увлечь в то состояние, в котором это падение совершилось. Но это, пожалуй, исключение единственное. А во всех остальных случаях об этом человеке надо молиться и просить, чтобы Господь явил ему Свою милость и, насколько это возможно, исправил то, что ты в его жизни натворил, исцелил раны, тобою ему нанесенные. Только эта молитва даст нашим воспоминаниям о каких-то горьких эпизодах смысл, а без нее они лишь бесплодно нас мучают.
Искать же человека через много лет, чтобы попросить прощения… Наверное, это все же не всегда нужно делать. Нам ведь неизвестно душевное состояние того человека, неведомо, как он переживает свое прошлое, что у него болит, а что — уже нет. Иногда, может быть, лучше не напоминать ему о случившемся когда-то и просто исчезнуть из его жизни. Другое дело, если отношения с человеком не прерывались, если вы, несмотря на какие-то конфликты между вами в прошлом, продолжаете общаться. Тогда сами ваши отношения, его реакции на вас должны подсказать вам, как себя вести. В конце концов, в году есть один замечательный день — Прощеное воскресенье, когда мы просим прощения у всех наших ближних за все осознанные или неосознанные, ведомые или неведомые нам грехи.
Журнал «Православие и современность» № 38 (54)