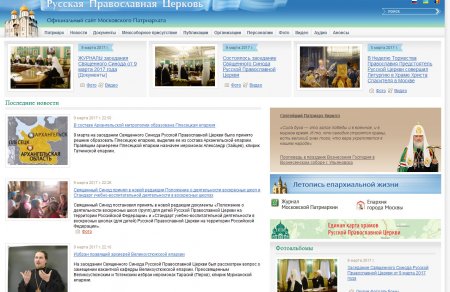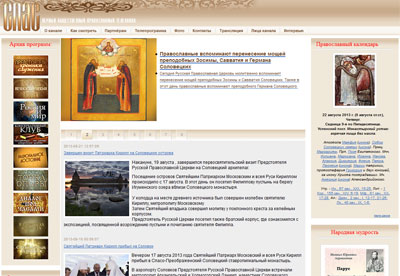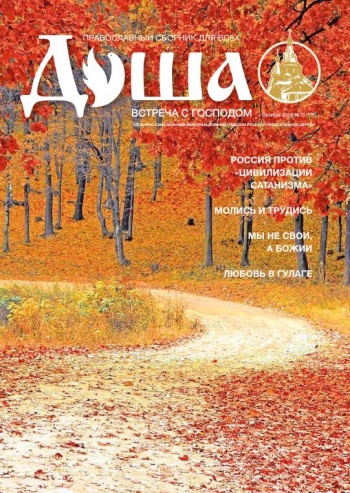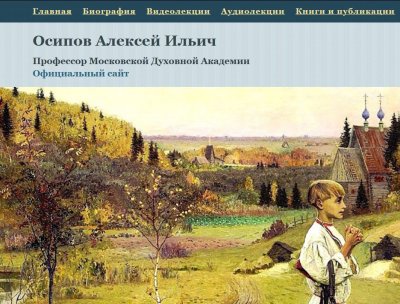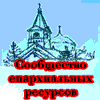Человек-таки уникален и таким именно себя чувствует. Ему трудно обосновать, объяснить свою уникальность. Все-таки ест как все, в том же транспорте ездит, ту же рекламу смотрит. Наружно наблюдая, ничего особенного в нем не заметишь. Винтик как винтик. Песчинка как песчинка. Но сердце кричит: «Нет! Никто как я, и я как никто! С чем меня не мешай, все равно я сам собой останусь!»
Это великий безмолвный крик. Великий и опасный. Великий, потому что все достойное внимания творится через неистребимое и таинственное «я». А опасный, потому что человек, не умеющий творить, утверждает свое «я» через бунт. (Оттого подонкам так хорошо в атмосфере революции. Бесполезные в мирном и созидательном труде, они раскрывают свое «я» только в стихии бунта.) Может, через насилие в разных формах. В любом случае – через какую-то чушь и непослушание.
Вздорное, мелкое, бессмысленное непослушание на каждом шагу силится утвердить за человеком его особые права. Точнее – проявить право на особый статус. Почему человек выжимает из мотора 200 км/ч там, где разрешено не более 90? Да потому, что он «не тварь дрожащая, но право имеет». И под «кирпич» едет по той же причине, и двойную сплошную пересекает и так далее. «Преступление и наказание» он до смерти не прочтет, зане ему не надо. Но преступления будет совершать в духе ошалевшего от гордых фантазий студента и в том же духе будет встречаться с наказанием.
При входе во многие места нарисованы перечеркнутые предметы, как то: декольте, мороженое, собака, мобильный телефон, фотоаппарат. Но человек, без труда считывая смысл этих пиктограмм, на практике уверен, что они не к нему относятся. Отсюда холодное бешенство музыкантов и актеров, вынужденных выслушивать рингтоны посреди своей сценической работы. Отсюда раздражение музейных работников на патологических любителей фотографировать телефоном в галереях и выставочных залах. Там именно, где телефон и фотоаппарат при входе нарисованы и недвусмысленно зачеркнуты. Знакома эта болезнь и священникам. Какая бы скорбь или какая бы радость не воспевалась Церковью через богослужение, всегда есть риск, что где-то среди молящихся раздастся мелодия звонка и чей-то голос приглушенно скажет: «Алло! Я сейчас не могу говорить. Я перезвоню».
Просто человек скользит взглядом по запрещающим и предупреждающим знакам и думает, что они начертаны для кого угодно, только не для него. Ну, как смерть, например. Ясно ведь, что все умирают. «Все, но не я», – шепчет левое полушарие правому, или наоборот.
«С собаками нельзя», – гласит надпись. Но человек думает: «Это и понятно, что с собаками нельзя. Собаки злые, вонючие, агрессивные. Но это же не мой Пупсик. Пупсик у меня ласковый, чистенький, умный такой. Он даже не совсем собака, а почти человек».
И так повсюду. Шепот совести о личном бессмертии и внутреннее убеждение в своей неповторимости играют злую шутку с человеком там, где он не умеет отделять мух от котлет. Этот шепот и это чувство ведут человека не к молитве и добродетели, а к беззаконным и неосознанным попыткам расширить за счет других свое жизненное пространство.
Совсем не надо удивляться тому, что люди на каждом шагу не верят написанному в Библии. Или верят, но на практике это никак не заметишь. Люди даже написанному на трансформаторной будке не верят. А написано там: «Не влезай! Убьет!» И череп нарисован с молнией.
Люди не верят написанному и не соотносят его с собою
Откровение (Синайское) тоже было при громе и молниях, с угрозой смерти и трепетом во всякой душе. И если бы так и дальше было, все было бы по-иному. А так… Ну, книжка. Ну, Библия. Рассказы всякие, истории, притчи, заповеди. Книжку можно в руках повертеть, оспорить, посомневаться. А кто писал? А не изменился ли текст за многие столетия? И так далее. В общем, люди не верят написанному и не соотносят его с собою. Даже в отношении Библии – не то что дорожных знаков. Или наоборот: даже в отношении дорожных знаков, а не то что в отношении Библии.
Я прошу прощения, но приведу еще пример, многим знакомый и весьма показательный. Еще раз прошу прощения. Дело в том, что мы не ангелы, а, следовательно, нуждаемся в уборной. Уборная же, как всякое рукотворное изобретение, нуждается в правилах эксплуатации. Одно из таких: не бросать в раковину бумагу или иные гигиенические штуки. Ну, понятно: чтоб не забилось там все, чтоб не плыло потом верхом, чтоб не закрывать кабинку на ремонт и так далее. Это так же должно быть понятно, как «не кури на заправке», «не высовывай голову из окна поезда на ходу»… Должно, но не понятно. Что в театре, что в ресторане, что в аэропорту с большим (не скрою) удивлением раз за разом видишь, что простейший текст просьбы на нескольких языках – «не бросайте… и прочее» – очередной посетитель не осилил. Не смог прочесть. Или прочел, но подумал, что это не ему адресовано. Или сначала бросил, а потом прочел. Или что-то еще, я уж не знаю. Эти досадные мелочи имеют далеко идущие последствия.
Например, надо говорить с людьми о высоком, возвышать душу и облагораживать. Но как ты будешь возвышать человека, шуршащего фантиком в зале консерватории? Вроде бы с ним Бах и Рахманинов со сцены уже беседуют. Но он знай себе шуршит, а потом в уборной он же, видимо, и раковину забьет каким-то гигиеническим изделием. А не он, так сосед или соседка. Иной священник справедливо скажет: «Я хотел бы говорить с вами о Фаворском свете или ангельском мире, но буду говорить о том, чтобы вы не приходили в храм в шортах и не ковыряли в носу посреди службы. Выше этого уровня мы пока не поднялись».
Человек подтверждает свою уникальность добровольным самоограничением и дисциплиной. Именно тогда он – освежающий ручей, веселящий глаз и слух. Иначе – просто миргородская лужа. И последний штрих: человек отвратителен, когда он не думает о других. О тех, кто живет по соседству; о тех, кто захочет рядом припарковаться; о тех, кто после тебя зайдет в уборную, и так далее.