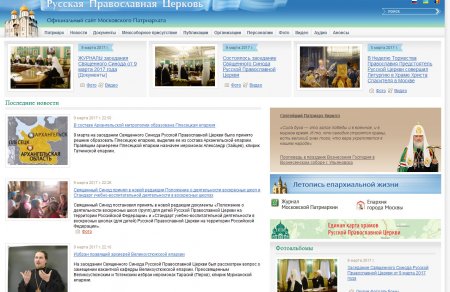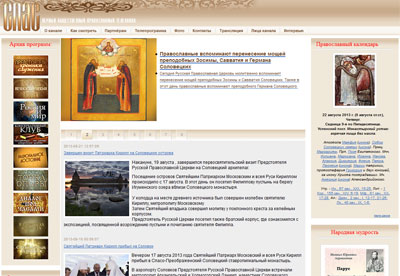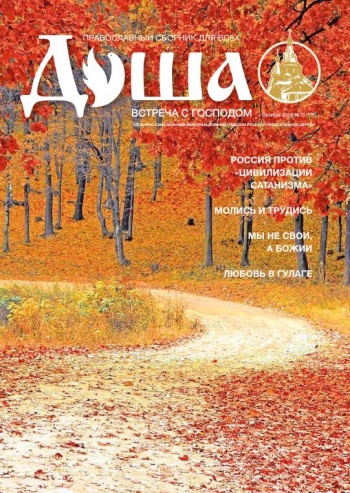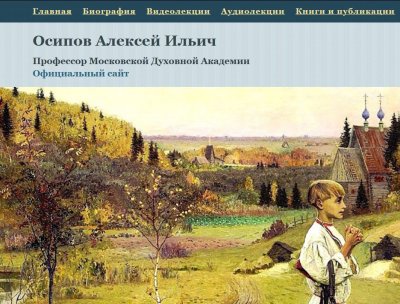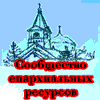Мудрые истины вечной классики, пронизанной духом библейских смыслов.

Еще в 1849 году великий провидец Николай Гоголь четко обозначил причину одного из главных повсеместных заблуждений, приводящих к падшести естества homo sapiens: «Человечество нынешнего века свихнуло с пути только оттого, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога».
Писатель, считая, что любовь к Творцу должна быть главенствующей и законы Его выше всех постановлений человеческих, в наброске к окончанию поэмы «Мертвые души» приводит монолог самого Отца Небесного, обращенного к управителю: «Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что я на тебя гляжу, что Я твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и внимания, и поощренья? (Зачем не шел ты до конца, закрывши глаза на людей и смотря только…) Какое бы тогда было тебе дело обращать внимание, как издержит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто знает, чем бы кончилось, если бы <ты> до конца дошел, не устрашившись?»
Работа «для себя, а не для Бога» нынче суть масштабных реформ и проектов, нутром которых являются преобразования смыслов в угоду идеологии т. н. прогресса. Это выражается в нивелировании, тотальной канселизации традиционных ориентиров или её составных: извращении ценностей, фальсификации и переписывании истории, модернизации священных книг и т. д. Изо дня в день здравомыслящие единицы под натиском неистовой пропаганды сталкиваются с усиливающимся желанием побега от изнуряющей умопомрачительной действительности, где каждый, по Николаю Васильевичу, сиюминутно превращается в «топором сделанного человека, которому даже можно вместо красной ассигнации дать синюю и уверить, что она красная». Пройти же смутный отрезок пути, отмеченного погромными скрипучими жерновами истории, со щитом терпения, смирения и «не устрашившись» – нелегкая задача, зачастую сбивающая многих на тропу предательства и веры, и традиций, и долга.
Тема выбора, искушения или испытания, связанного с жертвоприношением самого родного – детей – как совершенствования человека, пронизывает библейскую историю. Вспомним повеления Божии Аврааму: «…Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:1–2) или рассудительные стенания непорочного, справедливого и богобоязненного Иова, лишившегося всех сыновей и дочерей: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 2:21). Оба, отрекаясь от себя, проявили высочайшую кротость и необычайное смирение. «Вот мы, Господи!» – буквально сказали они, устремляя око мысленное к Нему, готовясь принять волю Его и удар жезла Его за всякую неправду их, не жалея детей своих. Новый Завет, как известно, интегрирует в себе идею жертвоприношения Сына Божьего Самим Отцом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Осмысление темы предательства, долга и чести в контексте сыноубийства не обойдено классикой мировой литературы и наиболее выразительно представлено произведениями «Тарас Бульба» Н. Гоголя и «Маттео Фальконе» П. Мериме.
Сцена казни Остапа, даже в предсмертных адских муках желавшего видеть твердого мужа, который бы утешил его при кончине, и его взывание: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» – по силе идейно-эмоционального регистра не уступают фрагменту убиения Тарасом Бульбой своего сына Андрия и корреспондируют с вопиянием Иисуса к Отцу Небесному в Гефсимании: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39). Гоголь, как помним, недвусмысленно предваряет речь Остапа, с тихою горделивостью приближающегося к лобному месту, словами: «Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу». Спаситель, согласно Писанию, был услышан; сокровенное «Слышу» раздается также среди всеобщей немой тиши из уст Тараса.
***
Автор «Тараса Бульбы», «трезвый историк и вдохновенный лирик» (Ф. Канунова), изучивший изрядное количество летописей и исторических свидетельств эпохи, непревзойденным пером рисует эпохальное полотно острой борьбы и смерти неутомимых запорожцев. Они сражаются с поляками-католиками за святую православную веру, ибо немыслимые гонения и страшные дела происходят на родной земле: «ксендзы ездят теперь по всей Украйне (территория Речи Посполитой. – Н. С.) в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз».
В вопросах о греховности убийства людей во время воинских баталий, как справедливо указывает В. Воропаев, Гоголь всецело полагался на мнение отцов Церкви, в частности, согласно его выпискам, на мысли: свт. Афанасия Александрийского («…не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно»); Гедеона, еп. Полтавского («Облекается ли кто в воинственное мужество: оно возвышенно, когда дышит верою…»); св. Кирилла, приравнивавшего к мученикам всех воинов, погибших за веру, за Отечество. «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» – говорит атаман Кукубенко, душу которого несут ангелы на небеса. И в горнем мире доблестного казака встречает сам Спаситель: «“Садись, Кукубенко, одесную меня!? скажет ему Христос: “ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь?».
Церковь является прообразом братства, товарищества на страницах повести, между тем Гоголь отнюдь не идеализирует её членов, напротив, показывает, как их бесчисленные, будто морские пески, страсти («ни поста, ни другого христианского воздержанья» у них не было) провоцируют великие беды и несчастья. Андрий, искусившись красотой полячки, предает веру, отца, товарищество, узы которого священны. Его перевоплощенный образ – «чужого, врага» – писатель искусно запечатлевает устами Янкеля: «И наплечники в золоте и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и всё золото… Он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь». Порочным, однако, в Андриевой истории оказывается не сам алтарь любви, а именно страсть, толкнувшая его на бунт против Божьего предопределения – отречение от отчизны: «А что мне отец, товарищи и отчизна?.. И всё, что ни есть, продам, отдам, погублю…». Вот отчего Тарас риторически недоумевает: «Так продать? продать веру? продать своих?» Он выстрелом, словно замыкающий круг Хома Брут, навечно испепеляет возможность причисления Андрия к товариществу, что есть первым долгом и честью казака: «Пропал бесславно, как подлая собака!».
Любовь к отчизне Гоголь напрямую связывает с верой, любовью к Творцу, исполнению Его Закона. «Идея служения Богу и ближнему не владычествует в сердце Андрия, не наполняет всей его жизни, и потому душа его становится жертвой других “утешений? и “очарований?», – пишет И. Виноградов, полагающий, что вероятным источником для создания образа Андрия, обольщенного полячкой, была библейская история об Иудифи, прельстившей Олоферна.
***
Проспера Мериме Гоголь считал замечательнейшим писателем XIX века, способным, в отличие от других французских писателей, «схватывать верно местные краски». Новеллой «Маттео Фальконе» Мериме, как строжайший инспектор действительности, открыл Корсику, с её отдаленностью от цивилизации, внутренними законами, которые зиждились во многом на местных понятиях («законы маки») чести и долга. По сюжету 10-летний Фортунато прячет от солдат в копне сена бандита, получив за это плату – серебряную монету. Но финал битвы, разразившейся в душе мальчика при виде более ценного подарка – серебряных часов, которые стоили «добрых десять экю», трагичен. Он соблазняется новой вещицей с голубым циферблатом и показывает место скрывающегося Джанетто преследователям. Отец, несмотря на просьбы сына, ставшим первым из рода предателем, непреклонен и убивает его – вершит правосудие со словами «Да простит тебя Бог». Налицо высочайший градус драматической объективированности, однако в какой степени резонны и непоколебимы оправдания справедливости казни Маттео и осуждения максимализма Фортунато, если душа каждого склонна к Иудиному греху приобретательства? Именно сребролюбие апостол Павел называет «корнем всех зол», способствующим в том числе уклонению от веры. Не случайно В. Жуковский с «чертовски небесной душой» (по определению А. Пушкина) в стихотворном переводе новеллы психологически тонко акцентирует невоскресимо мертвенное состояние отца мальчика после содеянного греха: «На ногах он / Был тверд; но жизни не было в его / Лице; с подпорой старости своей / И сердце он свое убил».
В 1843 году автор «Мертвых душ» посетил Сикстинскую капеллу, где созерцал «Страшный суд» Микеланджело. «Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. “Тут история тайн души, – говорил Гоголь. – Всякий из нас раз сто на день то подлец, то ангел?», – вспоминала его «бесценная подруга» А. Смирнова. Думается, крайне необходимо, чтобы в эти воинствующе исступленные дни в вопросе стояния за веру, суть которой – Истина, мы предавались единственно ангельскому попечению и действиям, исполненным бесконечной любви, происшедшей от Божией, ведь именно тогда, по замечанию редкостного христолюбца Достоевского, и разрешается откровенная тайна Иова, утратившего всех детей и получившего по благословению Господа после всех искушений семь сыновей и трех дочерей: «Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы?». Ответ писателя тверд и всецелительно утешителен: «Можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость». Однако, разумеется, с непременным условием: когда всё обымает «правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая».
Наталья Сквира