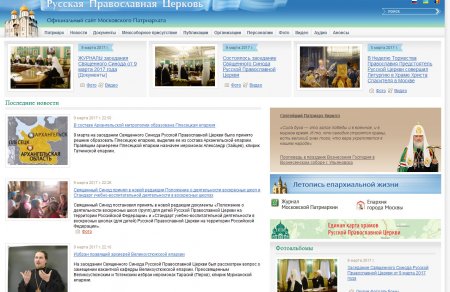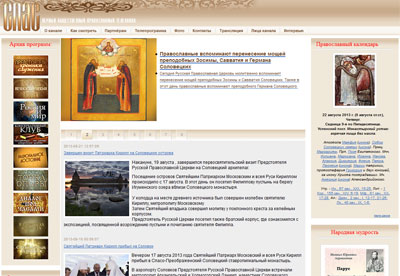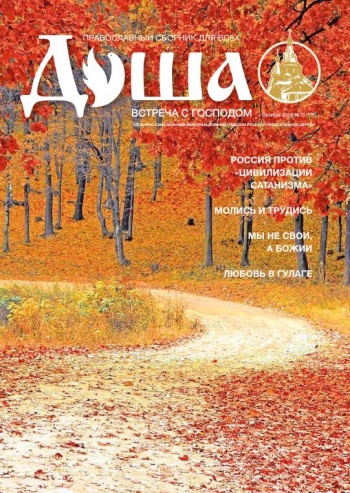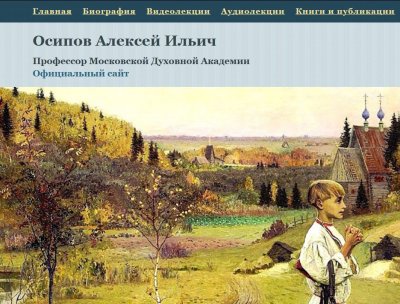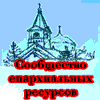В тот год ноябрь выдался бесснежный и ветреный. У отца Кирилла было ухудшение самочувствия, и мы примчались на «Скорой» в больницу, в нашу 546-ю палату, которую специально придерживали для нас в таких случаях. Палата была просторнее обычных, красивая, с торшером и мягким креслом. А из окон открывалась завораживающая панорама вечерней Москвы. Сколько таких вечеров минуло с тех пор, как старец наш оказался прикован к кровати?.. Когда затихала жизнь в больничных коридорах и дежурная медсестра наконец заканчивала с капельницами и перевязками, я любила устроиться возле батюшкиной кроватки, выключив верхний свет и оставив только торшер, и долго-долго глядеть на бесчисленное множество дальних огоньков за огромными окнами …
В тот год ноябрь выдался бесснежный и ветреный. У отца Кирилла было ухудшение самочувствия, и мы примчались на «Скорой» в больницу, в нашу 546-ю палату, которую специально придерживали для нас в таких случаях. Палата была просторнее обычных, красивая, с торшером и мягким креслом. А из окон открывалась завораживающая панорама вечерней Москвы. Сколько таких вечеров минуло с тех пор, как старец наш оказался прикован к кровати?.. Когда затихала жизнь в больничных коридорах и дежурная медсестра наконец заканчивала с капельницами и перевязками, я любила устроиться возле батюшкиной кроватки, выключив верхний свет и оставив только торшер, и долго-долго глядеть на бесчисленное множество дальних огоньков за огромными окнами …
Москва стала расти и меняться за годы наших визитов в эту больницу. А в том ноябре на двух строящихся столичных высотках появилась играющая иллюминация. Красные лампочки переливались, затухали, снова весело вспыхивали, а потом вдруг превращались в огромное пульсирующее сердце. В какой-то момент я поняла, что это пульсирующее за нашими окнами сердце стало вызывать у меня тревогу. Почему сердце? Почему не новогодний шарик, например? Ведь не день же святого Валентина на носу…
Пару раз, тихо плача, звонила из Переделкино мать Ангелина. Святейший тоже был в больнице. Его сердечные приступы становились все опаснее, тяжелее и чаще, и лечение за границей уже не вызывало таких надежд, как еще несколько лет назад. Сестры, чувствуя неладное и получая неутешительную информацию о состоянии святителя, звонили нам. Они привыкли нести любую печаль к келье батюшки, но батюшка – вот уже четыре года как был парализован, и они укреплялись хотя бы тем, что звонили нам – в его палату. Ведь мы же тут, рядом с ним, и у нас обязательно найдется минутка просто молча вздохнуть у кроватки старца, молча поведать ему об их тревогах и переживаниях. И мы рассказывали батюшке.
Он мог тогда еще слышать и посильно отзывался. Батюшка начинал тяжело дышать и медленно заносил правую руку для крестного знамения. Рука его сбивалась, дрожала… И можно было только заплакать и отойти в сторону, к окну, чтобы не видеть эту страдальческую дрожащую руку.
– Святейший умер… – почему-то говорил батюшка (он часто повторял это в том году) и закрывал глаза.
– Нет, он жив, жив, только болеет, – твердили мы, но старец уже не отзывался. Мы понимали, что рассказать об этом не можем никому.
А за окном все билось и пульсировало, наводя необъяснимую тревогу, большое красное сердце…
Однако и Святейший, и батюшка, к всеобщей радости, почти одновременно пошли на поправку, были выписаны и вернулись в Переделкино. Всенощную под Введение Святейший уже должен был служить, а мы только приехали из больницы, разбирали вещи и, конечно, готовились к келейной Литургии. Этот день был памятен для нас, для отца Кирилла – инсульт случился именно под Введение.
Вышло так, что патриарху никто не успел сообщить о возвращении батюшки из больницы. Все забегались с приездами-переездами, встречами и приготовлениями. Вечером, уже в сам день Введения, сестры рассказали мне, что патриарха расстроила наша невнимательность.
«Ну вот, – мрачно подумала я, – надо “идти на ковер”… И куда остальные смотрели? Неужели никто даже словом не обмолвился – это же не секрет?» Но в глубине души я даже обрадовалась, что смогу подойти к святителю и подробно рассказать ему о состоянии отца Кирилла.
Святейший все пристальней и взволнованней следил за нашими делами, а когда навещал, заходил в келью и приближался к кроватке больного – бледнел, и волнение его трудно было не заметить. И он, и батюшка знали и чувствовали про жизнь нечто такое, о чем мы, еще молодые и здоровые люди, могли только догадываться.
– Устали вы, наверное, уже? – спрашивал святитель у нас сочувственно и благодушно посмеивался, когда мы наперебой начинали утверждать, что такая постановка вопроса – в корне неверная. Разве можно устать от тех, кто тебе дорог?!
Скромная и всегда немногословная мать Ангелина как-то проговорилась, что часто стала замечать, как Святейший в тишине и полумраке подолгу простаивал перед иконами… Она следила за чистотой и порядком в его кабинете, и поэтому ей доводилось оказываться таким свидетелем.
4 декабря, в 21 час, как раз во время ужина и вечерних новостей, я побежала в основной корпус резиденции – «на прием» к патриарху…
– Виновата! – бодро начала я, памятуя, что Святейший не любит насупленных и угрюмых физиономий и будет рад, если ты подойдешь к нему в духе открытости и простоты.
– Ну, Наташа! Вы поставили меня в глупое положение, – Святейший улыбался и, похоже, вовсе не собирался устраивать мне дисциплинарный «нагоняй». – Приехали в Донской сегодня, я интересуюсь у наместника, как там старец, а батюшка-то, оказывается, давно уже дома, с нами!
Еще пошутили про погоду, кажется, в Эфиопии. Там снег, оказывается, нежданно-негаданно выпал… А у нас – Новый год на носу – ни снежинки!
Утром Святейшего не стало.
К вечеру суровая декабрьская поземка намела немного снежка, и он покрыл наконец уставшую от собственной черноты и обнаженности землю.
***
P.S. Недавно моя мама по неосторожности упала на улице. Призналась, что не хотела мне рассказывать, но вскоре ей почему-то покойный патриарх приснился и говорит строго, но затаив улыбку в глазах: «Вы, Любовь Дмитриевна, дочку-то свою пожалейте: она занята, за тяжелобольным ухаживает, и если еще вы упадете и покалечитесь – что ей тогда делать?!» Так прямо и сказал!
– Ой, рассказывает мама, – я уверяю Святейшего, что отныне буду на улице осмотрительнее, а он, представляешь, продолжает: не только на улице, а и по квартире ходи осторожно!
Мама после этого однажды чуть не расшиблась в ванне – стареет уже, немощная становится, но призналась, что удалось ей каким-то чудом, видно по молитвам святительским, удачно «приземлиться» – отделалась легкими ушибами. А ведь предупреждал Святейший. Дипломат – знает, что повлиять на родителей можно только напомнив о благе детей. Заботится о нас.