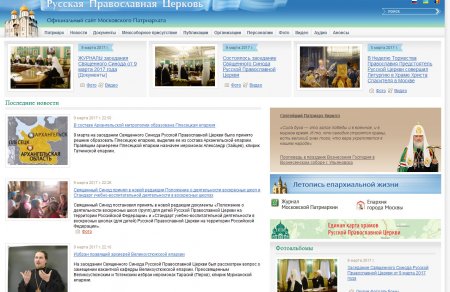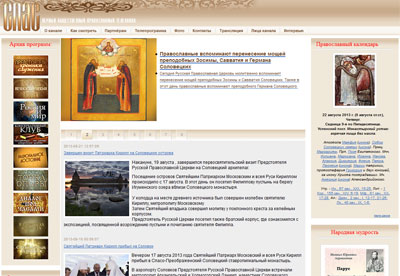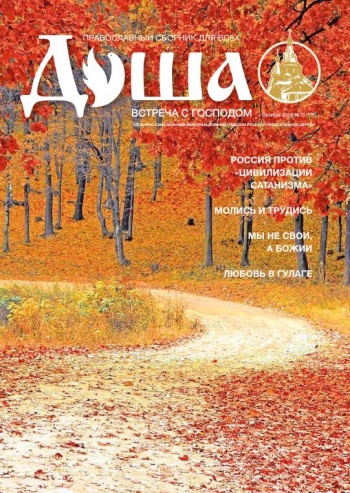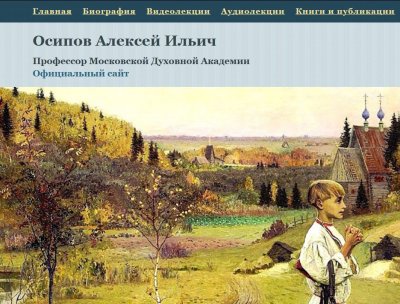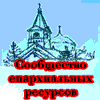В дни святок мы традиционно публикуем новые рождественские рассказы. На этот раз это рассказ новосибирской писательницы Ларисы Подистовой, вошедший в изданный «Фомой» в 2005 году сборник святочных рассказов «Покажи мне звезду».
Больные дети Максимовне нравились больше, чем выздоравливающие. Честно говоря, она не любила ни тех, ни других, просто больные доставляли ей меньше хлопот. Они не бегали по отделению, не кричали, не разбрасывали где попало игрушки и не выцарапывали на крашеных стенках свои имена и прочие глупости. Лежали тихо под капельницами или просто спали. Рядом, как правило, всегда был кто-то из родственников — мамаши, бабушки, тетушки, так что было кому присмотреть и поухаживать. Все облегчение для пожилой санитарки, у которой и так дел невпроворот. На самом деле, Максимовна с удовольствием сидела бы на пенсии и попивала чай с пирожками, только пенсия была совсем маленькая, и на пирожки ее не хватало. Вот и приходилось в шестьдесят с лишним лет махать шваброй, убирая за этой мелюзгой.
Максимовна знала, что все считают ее неприветливой и побаиваются, но ей это нравилось — меньше будут приставать с просьбами. Она даже гордилась тем, что к ней стараются лишний раз не подходить, а если уж заговаривают, то обязательно робко, нерешительно, как с начальницей.
Правда, если кто-то из детей умирал — а это время от времени случалось, — в душе старой санитарки вдруг что-то начинало тяжело и болезненно ворочаться. Душа вспоминала, что у Максимовны тоже когда-то был сын Сережа, которого в восемь лет насмерть сбил грузовик. После этого детей у нее больше не родилось, а по Сереже она так долго и горько плакала, недоумевая, почему умер именно он, а не какой-нибудь чужой мальчишка-сорванец, что выплакала все слезы на всю оставшуюся жизнь.
Выписавшиеся дети извлекали из тумбочек свои пожитки, подбирали разбросанные игрушки, выходили за дверь отделения и пропадали из жизни Максимовны. Через некоторое время пустая кровать заселялась еще кем-нибудь, кто потом тоже выздоравливал и уходил… Словом, все шло своим чередом.
Когда выписывали пятилетнюю Катю, Максимовна как раз драила палату, где эта девочка пролежала почти три недели. Санитарки обычно много чего слышат и знают, например, от медсестер, которые переговариваются на посту, или от родственников больных. Про Катю Максимовна знала, что ее выписывают не потому, что она уже здорова, а потому что дальше ее требовалось лечить в специализированной клинике и, может быть, даже оперировать, и еще непонятно, поможет это или нет.
Самой Кати в палате уже не было, но когда санитарка перестилала освободившуюся постель для новых пациентов, в дверь неожиданно заглянула Катина мама, очень похожая на Катю — тоже светловолосая, темноглазая, с аккуратным веснушчатым носиком, — и несмело спросила:
— Простите… Вы здесь не находили собачку? Плюшевую, коричневую, совсем маленькую. С такими длинными висячими ушками…
А у Максимовны выдался очень хлопотный день. С вечера она легла поздно, потому что гладила рождественские облачения для церкви, в которую уже много лет ходила. Утром отнесла чистое и выглаженное в храм. Батюшка, отец Виталий, подивился ее расторопности, поблагодарил и благословил, так что на работу Максимовна пришла в хорошем настроении. Но потом начались какие-то мелкие расстройства, заботы, сказалось и то, что она не выспалась… Словом, к обеду от утренней радости уже ничего не осталось, зато накопились усталость и раздражение.
— Не знаю никаких собак! — угрюмо буркнула Максимовна, недовольная тем, что ее потревожили таким глупым вопросом.
И только когда женщина, огорченно вздохнув, ушла, Максимовна припомнила, что действительно была у Кати такая любимая игрушка. Крошечный, как раз умещавшийся на маленькой ладошке щенок с веселыми черными глазками. Катя звала собачку Плюшкой, укладывала рядом с собой на подушку, а когда приходило время делать уколы или капельницы, сжимала песика в кулачке, чтобы он придал ей смелости.
Осмотревшись и подумав, Максимовна приподняла тумбочку. Так и есть! Катина любимица завалилась в самый уголок возле стены, за широкой деревянной ножкой, поэтому ее и не смогли найти.
Санитарка выглянула в коридор, но ни Кати, ни ее мамы не увидела. Должно быть, они уже спускались по лестнице к выходу из клиники. И, как на грех, никого поблизости: все ушли в столовую обедать. Можно было, если поторопиться, догнать Катю или хотя бы окликнуть…
— Ну, вот еще! — проворчала себе под нос Максимовна. — Гоняйся за ними по лестнице! Я-то, поди, уже не девочка, седьмой десяток идет. Сестрам потом скажу, чтобы им домой позвонили. Если надо, пускай еще приходят, тогда и отдам.
Она сунула игрушку в карман халата и пошла мыть пол возле поста. Там сейчас приходилось убирать больше — еще перед Новым годом медсестры поставили у окна наряженную елку, и дети вечно толклись вокруг нее, трогали игрушки, отчего на пол осыпалась хвоя и падали блестящие нити «дождика». Максимовна не могла дождаться, пока эту елку унесут, чтобы опять стало удобно мыть пол и вытирать пыль с подоконника.
Уже подойдя к своему дому, санитарка вспомнила, что, закрутившись с делами, не отдала медсестре Людмиле Катину собачку и даже не попросила позвонить девочке домой, что игрушка нашлась. Плюшка так и осталась лежать в кармане халата, который Максимовна сегодня забрала домой постирать.
— Ладно, что ж теперь! — подумала Максимовна. — После выходных скажу. И вообще, что я волнуюсь-то? У ребенка, поди, сто таких собак дома. Если очень надо, пускай новую купят, не обеднеют. А у меня и без этого голова от забот пухнет!
Размышляя так, она уже поднималась на второй этаж и шарила в сумке, ища ключ от квартиры. Лампочка на ее этаже светила слабо. Максимовна протянула руку с ключом и шагнула к двери…

Нога наткнулась на что-то мягкое и живое, вдруг издавшее жалобный, испуганный визг. Кто-то только что лежал или сидел на коврике перед дверью в квартиру. Максимовна осторожно нагнулась посмотреть, кто же это метнулся из-под ее ног и прижался в угол. Оказалось, что это совсем небольшой щенок. Он дрожал всем телом, но при этом глядел на санитарку без обиды, даже наоборот, с доверчивой надеждой.
— Нагадил, поди, на коврик-то? — неприязненно спросила Максимовна. К кошкам она относилась равнодушно, а вот собак недолюбливала, считая нечистоплотными. — Чего дрожишь? Я же тебя не бью.
Услышав, что строгий голос немного смягчился, щенок неистово завертел коротким хвостиком, и стоило Максимовне приоткрыть дверь, как он тут же шмыгнул в получившуюся щель!
— Куда?! — ахнула санитарка. — Еще тебя мне не хватало! Кыш! Брысь! Пошел, пошел отсюда!
Щенок и не думал уходить, наоборот, уже вовсю бегал по комнатам, обнюхивая углы и ножки мебели, — знакомился. Включив свет, Максимовна наконец хорошо его разглядела. Он оказался светло-шоколадным, короткошерстым, с висящими мохнатыми ушками и задорными карими глазами. Видно, не совсем породистый, но и не безнадежная дворняга. Даже чем-то симпатичный.
— Вот я тебя! — уже менее уверенно сказала санитарка, но все-таки взялась за веник.
Щенок понял, что на него сердятся, поджал хвост и ловко залез под диван. Максимовна попыталась его оттуда выгнать — не тут-то было. Непрошеный гость уворачивался и скулил, как будто недоумевая, за что же его веником-то… Устав стоять на коленях перед диваном, санитарка рассердилась.
— Погоди у меня, злодей! Все равно выгоню. Пусть кто-нибудь другой тебя к себе берет, а мне такого добра не надо. Столько еще дел, а я трачу время на такую пигалицу!
Это был вечер Сочельника, и Максимовна собиралась приготовить назавтра праздничный салат и куриный окорочок с грибным соусом, а потом еще успеть на всенощную. Вздыхая и ворча себе под нос, она взялась за стряпню.

Почуяв из кухни мясные запахи, голодный «злодей» выполз из своего укрытия и осторожно процокал коготками по старенькому коридорному линолеуму.
— Ну? — грозно спросила Максимовна, увидев торчащую из-за дверного косяка робкую шоколадную мордочку. — Зачем пришел? Звали тебя, что ли?
Мордочка спряталась. Потихоньку выглянув, старушка увидела, что щенок понуро сидит у стены, широко расставив передние лапки и словно раздумывая, зачем судьба поманила его надеждой на добрую хозяйку, а сама подсунула эту вредную бабку, и можно ли, в таком случае, вообще ожидать от жизни чего-то хорошего. На мордочке у него отражалось бесконечное уныние. Максимовна испытала даже что-то вроде сочувствия: ей сегодня до первой звезды тоже есть не полагалось, а угощение пахло до невозможности вкусно.
— Нечего баловать! — строго сказала она и щенку, и себе, после чего опять ушла на кухню, где на сковородке шкворчал, исходя жирком и праздничными ароматами, окорочок, а в эмалированном сотейнике бодро побулькивал наваристый грибной бульон. Время от времени она искоса поглядывала на проем двери, но щенячий нос больше не показывался.
Зато из гостиной вскоре раздался громкий зловещий стук. И не один.
Максимовна, только успевшая снять сковородку с огня, вздрогнула и побежала туда.
Зрелище было, как говорится, не для слабонервных. Сам по себе упавший торшер серьезно пострадать не мог, но в полете он зацепил кружевную салфетку, уголком свисавшую с буфета. Салфетке тоже ничего сделаться не могло, но на ней Максимовна для красоты расставила маленьких фарфоровых оленят, купленных давным-давно, свой фотопортрет минувшних молодых годов в пластмассовой позолоченной рамке и букетик сухих бессмертников в крошечной фаянсовой вазочке. Оленята при падении растеряли кто хвостик, кто ножки, кто ушки. Вазочка разбилась вдребезги, а рамка от портрета треснула в двух местах и теперь годилась только на помойку.

— Ах ты!… — вскрикнула Максимовна, давясь возмущением. — Ты где?!
Ей, конечно, никто не ответил. Осматриваясь, она очень скоро наткнулась на влажный взгляд карих собачьих глаз, блестевший из дальнего угла под буфетом. Наученная опытом, она не пошла за веником, а быстро вернулась на кухню, скрепя сердце, отрезала от окорочка кусочек поджаристой шкурки и с ним вернулась в комнату.
— Иди сюда! — с фальшивой ласковостью позвала она. — На, на! Иди сюда, кому говорю!
Щенок оказался неглупым и вышел не сразу. Максимовна уже хотела плюнуть на гуманность и начать тыкать в него шваброй, но тут ее военная хитрость наконец сработала. Собачка выбралась из-под серванта и побрела к санитарке, виновато опустив голову и виляя всем худым шоколадным телом. Ее глаза неотрывно следили за лакомством в человеческой руке.
— На, на! — пела Максимовна, потихоньку отступая в прихожую. Щенок доверчиво шел за ней, как дитя за волшебной дудочкой. — Хороший, хороший… Иди сюда, иди!
Открыв дверь на лестницу, она бросила куриную шкурку подальше на кафельный пол.
— Бери, ешь!
Щенок укоризненно посмотрел на нее. «За дурака меня держишь?» — читалось в его грустных и понятливых глазах. Через порог он идти не собирался. Максимовна, увидев это, потеряла остатки терпения. Стремительно нагнувшись, она протянула руку, готовясь схватить смышленного пса за шкирку и попросту выкинуть за дверь. Щенок оказался проворнее, он отпрыгнул в сторону, развернулся, слегка пробуксовав лапами по линолеуму, и опрометью кинулся в гостиную — прятаться под мебель. Но его ожидал ужасный сюрприз: коварная старуха, выманивая его в прихожую, успела плотно закрыть двери в комнаты и кухню! Бедняга заметался, запутался, прошмыгнул между войлочными тапками грозно приближавшейся санитарки и вылетел в единственный открытый дверной проем… На лестницу.
Максимовна тут же захлопнула дверь и облегченно вздохнула. В глазок щенка видно не было, но стоило ей прильнуть к прохладному стеклянному кружку, как с той стороны под дверью залаяли, заскулили и зацарапали лапами. Максимовна мрачно покачала головой, представив, во что могут превратиться ее придверный коврик и дермантиновая обивка. Потом она пошла на кухню, где соус успел перекипеть и загустеть, так что в нем могла стоять ложка. Поправив дело, насколько было возможно, Максимовна прибрала в гостиной. Двух фарфоровых оленят и рамку пришлось выбросить в мусорное ведро, в торшере заменить лампочку. Подметая кусочки стекла, оставшиеся от вазы, старушка почувствовала, что ноги ее уже почти не держат. А ведь еще предстояла всенощная…

Санитарка поставила будильник на восемь часов и прилегла в спальне на застеленный зеленым одеялом диван, собираясь часок подремать. Из-за двери, ведущей на лестницу, доносились слабые жалобные звуки: это щенок горько оплакивал свое изгнание. Максимовну уколола совесть. В конце концов, рядом было маленькое беззащитное существо, невесть как заброшенное в чужой подъезд, голодное и одинокое. За дверью, в большом и неласковом мире, с ним могло случиться все что угодно: его мог походя пнуть пьяный сосед из квартиры напротив, замучить вредный подросток Стасик, живущий этажом выше, затискать малолетняя девчонка Томка, приехавшая на праздники к бабушке… Или, скажем…
Не додумав до конца, усталая Максимовна погрузилась в сон, очень походивший на явь.
Ей снилось, что у нее в комнате вдруг все стало золотое, как будто со всех сторон сразу лился свет, какой бывает утром при восходе солнца. Он был такой яркий, что виделся одинаково и открытыми глазами, и сквозь опущенные веки. И еще было очень тепло и покойно, только почему-то щемило в груди. А самое странное и удивительное было то, что посреди комнаты стоял невысокий, очень красивый мальчик и внимательно смотрел на Максимовну.
Максимовна сразу же села. Сердце у нее быстро-быстро заколотилось, потому что на всем свете мог быть только один такой замечательный мальчик, как этот…
— Сереженька, — изумленно сказала Максимовна, — сынок, как ты сюда попал? Да какой ты стал славный, румяный! Я тебя и не узнала…
— А ты, мамочка, меня часто не узнаешь, — грустно улыбнувшись, ответил Сережа. — Сколько раз я в твоем отделении бывал, и ты меня то ругала, то гнала, а один раз даже тряпкой грязной на меня махнула!
— Как это? — не поверила Максимовна. — Не может быть! Когда же?
Сережа ничего не сказал, но только сейчас старушка увидела, что свет в комнате исходит от него и лучи дрожат и переливаются, как чудесная золотая вода, и даже тихонько поют что-то сладкое, печальное… Вдруг ей припомнилось больничное отделение, длинный крашеный коридор, маленькие мальчишки, стайкой бегущие от злющей бабки, которая машет на них шваброй… И ведь бабка-то — знакомей некуда, каждый день хмуро смотрит на Максимовну из зеркала!
Золотые струны лучей жалобно зазвенели.
— А еще, мама, помню, я лежал совсем один с высокой температурой, и мне хотелось, чтобы кто-то из взрослых подошел и сказал мне что-нибудь в утешение: мол, не горюй, ты обязательно поправишься, не плачь, скоро будет легче. А ты прибиралась рядом и в мою сторону ни разу не посмотрела…
— Что ты говоришь, сыночек? — а перед глазами уже встала другая картинка. Случалось такое, сколько раз случалось, только дети все-таки были незнакомые.
И чем горячее Максимовна спорила с сыном, тем грустнее у него делался взгляд. И свет вокруг ярче разгорался, так что уже глаза еле-еле выносили. А как тоскливо щемило сердце, даже сказать нельзя.
— Или вот, заглянул я как-то в храм, куда ты ходишь. Подошел к аналою, любовался, слушал, как поют псалмы… А ты стояла позади меня и ворчала, что все у меня не так и зачем такие, как я, вообще сюда ходят…
Тут старушка наконец не стерпела:
— Да что ты, Сереженька, разве я когда-нибудь тебе такое говорила? И ведь ты умер давно! Это все чужие дети!
Тут Сережа посмотрел на мать так печально, что у той в глазах помутнело и защипало от выступившей соленой влаги.
— А ты представь, мама, вот умрешь и ты, придешь к Господу, и Он тебе скажет: «Не хочу тебя знать, чадо, ты Мне чужая!» Каково тебе тогда будет?
Максимовна услышала и залилась слезами. И вдруг свет перестал жечь, а Сережа повеселел.
— Я, когда на земле жил, не любил, если ты плакала. А теперь понимаю, что покаянные слезы — огненные, но за них Господь нас больше всего утешает. Пойдем, мама, скоро случится великое чудо.
И сейчас, когда сияние уже не резало глаза, Максимовна разгядела за спиной сына два ясных блистающих крыла. Как удалось ее собственному телу оторваться от земли, она так и не поняла. Внизу темнел и мерцал огоньками город, а навстречу летел чистый и сладкий, как родниковая вода, ночной воздух.
— Гляди-ка, Сережа, в скольких окошках свет, сколько людей не спит…
— Это не окна, мама, это рождественские свечи в храмах. Смотри теперь не вниз, а вверх, нам туда нужно.
Но Максимовна не утерпела и бросила еще один короткий взгляд на землю. Ей привиделось, что между радостными свечными огоньками бродят какие-то смутные недобрые тени, то свиваются в клубки, то снова распадаются… Казалось, им хочется задуть как можно больше огней.
— Не беспокойся, мама, — Сережа заметил ее испуг, — ничего они не сделают. Христос победил ад, все бесы трепещут перед Его Рождеством. То ли еще будет на Пасху!
А вверху сверкала звезда, ярче которой старой женщине видеть никогда не приходилось. Этот свет делался все ближе, и чудилось, как будто в темном небе открывается дверь в ярко освещенную комнату… Но это оказалась не комната, а храм, такой огромный и царственный, что захватывало дух. Он весь был полон звуков, весь горел золотом и яркими красками, словно живая радуга. Струился свет, струились певучие голоса, и такая невыразимая сладость теснилась в сердце, что слезы сами лились из глаз, и нельзя было сказать, от радости они или от мучительной бессловесности. Невидимый хор пел «Алиллуйя».
— Сыночек, это рай?
— Нет, мамочка, только преддверие. Мне позволили тебя сюда ненадолго привести, чтобы ты порадовалась. Я за тебя долго-долго молился!
— А можно поближе к царским вратам подойти? Так хочется посмотреть!
— А ты сделай несколько шагов, и сама все поймешь. Мы с тобой сейчас у самых дальних дверей стоим.
Только один шаг и смогла сделать Максимовна, дальше ноги не понесли. Такая была кругом красота — и добрая, и грозная, и ласковая, и пламенная, — что старушка не посмела больше двинуться. Стояла, смотрела, слушала, а то, что ни глазам, ни ушам не под силу, вбирала сердцем. Окружающее торжество нарастало, близился великий час. Где-то на земле, в бедном вертепе, облекался в человеческую плоть Господь Бог, чтобы люди могли не только стоять в слезах перед дверями рая, чтобы они могли обрести дорогу и дальше…
А когда настала минута самого большого ликования, Максимовне подумалось: «Господи! Вот так бы и умереть, в такой благодати!»
Но она не умерла, а вернулась опять домой, в свою спальню. Сережа еще был с ней, теплый и лучистый, как маленькое солнышко.
— Сыночек, ты сейчас уйдешь! Я теперь все буду делать, чтобы мы с тобой опять встретились. Помолись за меня перед Господом, пусть Он мне поможет. Ох, если бы я могла тебя обнять, как раньше!
— Я, мамочка, за тебя всегда молюсь. Если бы ты знала, как ангелам жалко людей, как мы о вас часто плачем!
Максимовна почувствовала на своем лице ласковое, гладящее тепло, как прикосновение нежного крыла… Голос сына сказал тихонько прямо у нее над ухом:
— А собачку ты не выгоняй, это я ее для тебя попросил!
— Да зачем же она мне, Сереженька?
— Для веселья, мама. Я ведь вижу, какая ты всегда грустная. Помнишь, когда мы еще с тобой вместе жили, я все хотел маленького щенка?
— Помню. Уж как я потом себя корила, что отказывала тебе, как жалела!
— Больше об этом не жалей. Ты теперь и других детей полюбишь ради Господа и меня, а собачка будет тебя дома ждать, встречать, радоваться… Господь по-разному наши сердца смягчает. А на суде Он и зверям дает речь, чтобы они о нас свидетельствовали, ты это знай. Спаси тебя Христос, мама! Мне пора.
Тут Сережа исчез, а Максимовна проснулась в слезах.

Она с испугом обнаружила, что за окном светает. Ее сон оказался таким крепким, что она совсем не слышала, как прозвенел будильник, а сейчас был уже седьмой час утра.
— Всенощную проспала! — ахнула Максимовна, но тут же прислушалась к себе и вспомнила, какая великая радость ей подарена во сне. Да ведь была, была она на Всенощной вместе с Сережей!
Она встала на колени перед иконами, долго молилась и благодарила Бога. Потом вытерла слезы и… вспомнила о последних Сережиных словах.
За дверью на лестницу было тихо. Дом еще спал, ничьи шаги не тревожили каменных ступенек. Максимовна в тревоге приоткрыла дверь и выглянула. Щенок лежал на коврике, свернувшись зябким калачиком, и, услышав шум, поднял голову. В его больших блестящих глазах недоверчивость боролась с надеждой. Последняя, несмотря ни на что, побеждала.
— Ну, заходи, что ли! — неловко позвала санитарка и посторонилась, чтобы щенок мог прошмыгнуть мимо нее.
Но он не трогался с места.
— Что, обидела я тебя вчера? Ну, прости меня, не сердись. Пойдем!
Собачка, подумав, поднялась и нерешительно заглянула в прихожую. Воспоминание о вчерашнем вечере мешало ей безбоязненно переступить порог.
— Вот беда! Ну, и как же нам — до обеда в дверях стоять? Иди, мой хороший, иди сюда! Иди, я тебе за ушком почешу!
Наверное, в собаках больше веры в человеческую доброту, чем в нас самих. Щенок сделал несколько осторожных шажков, вопросительно посмотрел на Максимовну и, увидев, что она не злится и не собирается хвататься за веник, потихоньку вошел в квартиру.
— Ну, слава Богу! Дай я тебя поглажу… Молодец, умница!
Обрадованный лаской гость мигом повалился на пол, подставляя Максимовне светло-коричневое брюшко.
— Ой, да ты девочка, оказывается! Ну, давай почешу пузо, давай… Какая же ты хорошенькая, прямо плюшевая… Плюшка и есть! Идем, позавтракаем тем, что Бог послал. Плюшка, Плюшка!
Плюшка на этот раз не заставила себя упрашивать.
Пристально рассмотрев витрину киоска, Максимовна выбрала самый большой и яркий апельсин. Продавщица поупиралась, но в конце концов согласилась вынуть его из-за стекла для настырной покупательницы. После этого старушка забралась в автобус и поехала на другой конец города, крепко держась за свою потертую кожаную сумку.
День был замечательно солнечный и одновременно морозный. Автобусное окно заиндевело, поэтому сквозь ледяные цветы не было видно улиц, по которым извивался и петлял маршрут. Билетерша поначалу ленилась объявлять остановки, но ее пристыдили, и она начала неохотно выкрикивать:
— Дом культуры!.. Есть на выход? Следующая — Школа-интернат…
Максимовна вышла на Северо-западном разъезде. Район был новый, для нее незнакомый, раньше она никогда в эти края не попадала. Вокруг стояли высотные дома, между которыми в снегу зябли разноцветные детские площадки. Санитарка огляделась в надежде увидеть Катю катающейся с горки или бегающей вокруг лазалок. Но было холодно, горки и лазалки пустовали.
Адрес Максимовна запомнила наизусть, у нее вообще была очень хорошая память, несмотря на возраст. И дом, и подъезд нашлись быстро, теперь оставалось подняться в лифте на шестой этаж. Почему-то очень быстро билось сердце, и вообще Максимовна волновалась. За долгие годы сердитого недовольства она совсем разучилась ласково обращаться с людьми.
Оказавшись перед чужой дверью, обитой коричневыми рейками, старушка достала из сумки Катиного игрушечного щенка и апельсин, но все никак не решалась позвонить. Ее даже охватила паника — было совершенно непонятно, что говорить и как себя держать. А если ее вдруг начнут благодарить, тогда что делать? Вот беда-то…

— Да что это я? — рассердилась Максимовна на саму себя. — Как будто в лес к медведям иду!
И вдруг вспомнила, как, бывало, гордилась тем, что к ней самой боялись подходить с просьбами…
— Что же я скажу? Ох, Господи, помоги, надоумь Ты меня! Каково им-то раньше было со мной разговаривать? Поди, тоже поджилки тряслись… Ладно, не топтаться же вечно у порога, раз пришла. Ну, с Богом!
Она вздохнула, тщательно перекрестилась и нажала на пухлую белую кнопку звонка.
Лариса Подистова
Рисунки Юлии Каменщиковой