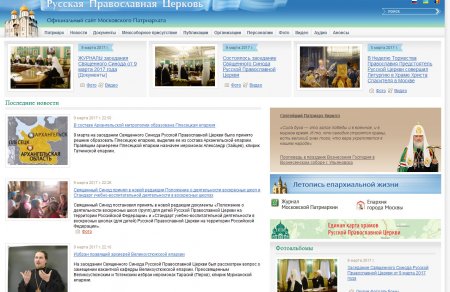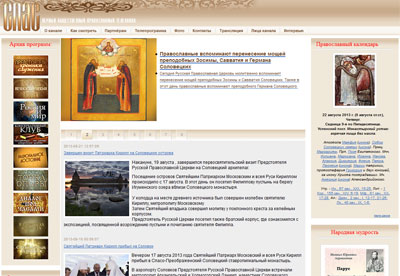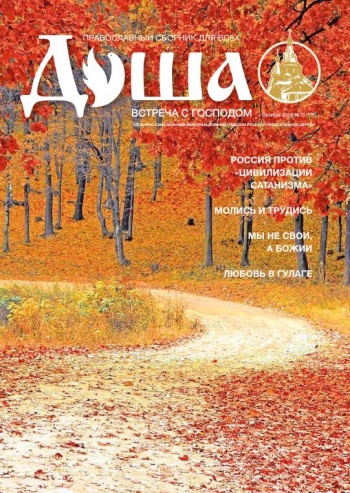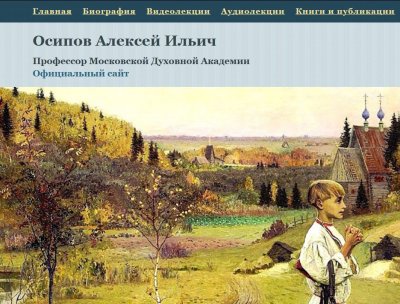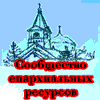Ни в чем так наглядно не проявляется разница между православной цивилизацией и современной секулярно-либеральной, как в отношении к страданию. Для второй это «табу»: любое страдание унижает достоинство, его следует всячески избегать, оно вынесено за рамки нормы и вообще приличий. Для первой — это правило («Никто же да не мнит без болезни очистить грехи», митрополит Киевский Никифор, XII в.).
Одна из аксиом русского духа, о которой много говорил, например, Достоевский, — готовность к «суме и тюрьме», к вольному и невольному страданию, которое понимается как жертва. Вплоть до смерти. Жертва ради спасения души, жертва за други своя или, в сниженном варианте, за идею.
Когда и как эта аксиома укоренилась в русской душе?
Он прописалась на Руси со времен первых святых — князей-страстотерпцев Бориса и Глеба († 1015), не ставших противиться своему убийце, старшему брату. Вольно отдавших себя в жертву в подобие Христу.
А развивать идею и практику вольного страдания во имя Христа стали монахи.
Инок-подвижник несколько веков был для русских идеалом человека. По суровому монастырскому уставу — в части постов и молитв — жили не только монашеские обители, но и вся мирская Русь, лишь с некоторыми послаблениями. Антиохиец Павел Алеппский, посетивший в XVII в. Россию, назвал ее «вратами борьбы, пота, трудов и пощения». Православные иноземцы с ужасом и восхищением высказывались о суровом благочестии русских, которые и в миру жили как в монастыре.
Но такой накал веры стал возможен потому, что в XI столетии монахи совершили на Руси свою «социальную революцию» (а в XIV в. ее повторил Сергий Радонежский).
Приведенное христианством, монашество не сразу пустило корни на Руси. Оно ютилось при городских церквях и ничем себя не выказывало, не мозолило глаза вчерашним идолопоклонникам, еще вполне по-язычески смотревшим на свою жизнь. Лишь в середине XI в. в вырытых пещерах над Днепром у Киева зародилась Киево-Печерская обитель, сразу прославившаяся исключительными подвигами своей братии. Подвигами суровыми и невообразимыми для тогдашнего обывателя, едва воцерковленного горожанина-двоевера или сельского «прихожанина» ближнего капища.
Первым ушел под землю жить, молиться и спасать душу Антоний Печерский. Перед тем он долго монашествовал на Афоне, и в новокрещеной Руси ему предстояло утвердить афонские принципы аскетического монашества. Сам Антоний жил в затворе, а руководили братией поставленные им игумены: Варлаам, затем Феодосий Печерский.
Однако Русь не Греция, обитать в пещере под землей здесь — совсем не то что на Афоне. Аскетизм тут вдвойне суров: и зимние холода сильнее, и «вареная овощь» не круглый год бывает на трапезе. Но и здесь печерские монахи находили способы утрудить себя еще жестче: ели один сухой хлеб, воду пили помалу, а некоторые и спали только сидя, и затворялись на годы в крохотных пещерках, где едва можно развернуться. И не давали себе покоя в трудах молитвенных и физических.
Аскетическое монашество Печерского монастыря утверждало в древнерусском обществе совершенно новый тип социального поведения — смиренное уничижение. Невиданное прежде на Руси явление прокладывало себе дорогу не без мук. Феодосию Печерскому в юности пришлось выдержать долгое нравственное противоборство с собственной матерью, боярской вдовой, не желавшей видеть сына в худых портах, за холопьей работой и с цепью на теле для укрощения плоти. Не помогли ни мольбы, ни побои, ни оковы, которыми вдова «вразумляла» сына. Варлааму при уходе в монастырь также пришлось принять брань от мира. Тоже боярский сын, он приехал к пещере Антония в полном убранстве княжьего дружинника. Раздевшись, кинул все к ногам монаха, подвел коня и сказал: «Вот прелесть мира, делай с ней что хочешь, а меня прими к себе». Антоний облачил его в иноческое одеяние. А затем явился разгневанный отец юноши со своими людьми. Они силой вытащили новоиспеченного пещерника на свет, без всякого почтения
разогнали остальных монахов. Отрока одели в прежний наряд и повезли домой. Несколько раз он срывал с себя ненавистную одежду, был одеваем вновь и, наконец, связан. Через несколько дней боярину стало ясно, что сына не переубедить. Родовой боярской чести пришлось понести большой ущерб…
Подобные истории в вариациях повторялись еще несколько раз. Мир долго не мог смириться с тем, что его отвергают. Первым же из князей это сделал в 1106 г. Святослав Давыдович Черниговский — уменьшительно Святоша. Бывший при нем лекарь немало досаждал князю, умоляя воротиться из монастыря в мир: мол, братьям твоим в большую укоризну твоя нищета, и сумасшедшим тебя почитают, что сидишь здесь на куче мусора и не имеешь где голову приклонить, и бояре твои пеняют на тебя, что лишил их славы и чести. А Святоша ему в ответ: «Если ни один князь не делал так прежде меня, то пусть я послужу примером им» (слова его сбылись очень скоро).
В глазах мирянина, еще крепко повязанного по рукам и ногам традициями отживавшего языческого миропорядка, главным было не «надругательство» над собой, которое творили печерские отшельники. Главное виделось в том, что целомудрие, смирение и нестяжательность (в переводе на мирской язык — нищета, отказ от родовой чести и утех плоти) отныне возводились в жизненный принцип. Для обывателя, которому прежняя вековая традиция велела всеми силами стремиться к сытости, нарядности, чувственности, плодовитости, — деяние вопиющее. Иными словами, монахам инкриминировали «антисоциальное поведение».
Церковь и монашество как ее часть проповедовали одну цель. Разница состояла в том, что монахи делали это самым наглядным образом, устремляясь к цели решительно и радикально. И это не могло не раздражать тогдашнюю общественность. Даже просто следовать заповедям и обуздывать свои страсти еще не многие умели. О более тонких моментах никто и не задумывался. Ну как могло князю, к примеру, прийти в голову отменить скоморошьи глумы и гусли «вещего Бояна» на пирах? (А ведь песельники, вроде знаменитого Бояна, были связаны с языческой традицией и считались «Дажьбожьими внуками», людьми, знающимися с «богами» и умеющими волхвовать.) Никто из иерархов Церкви к такому и не призывал. И только Феодосий Печерский, позванный в княжий терем, кротким словом убедил князя Святослава Ярославича задуматься: а так ли весело будет на том свете?
Князья вскоре полюбили своих монахов именно за их радикальную инаковость. Даровали обителям земли, села, звали иноков на обеды, почитали. Но и князьям несговорчивые подвижники становились порой поперек горла. Антоний и Феодосий каждый в свое время испытали на себе княжий гнев — ибо удумали перечить власти, наставляя на путь справедливости. Печерские отцы считали это своей первейшей обязанностью в отношении отринутого ими мира. «Подобает нам обличать вас и говорить о спасении души. А вам должно послушать это», — говорил Феодосий князю.
Социальное служение, начатое Печерским монастырем в игуменство Феодосия, приобрело неслыханные для человека того времени формы. Это, во-первых, укорение власть имущих — от сборщиков налогов и судей до князей, попытки пресечь или хотя бы ограничить их произвол. Игумен Иоанн в 1090-х гг. поплатился изгнанием на несколько лет за обличительные речи в адрес князя Святополка Изяславича, большого, надо сказать, безобразника, открыто разбойничавшего с боярами в своем же Киеве. Прежде, до печерских монахов, критиковать действия князя никто не рисковал. Князя могли изгнать во время мятежа, расправиться с его дружинниками, пограбить княжий и боярские дворы — но не обличать открыто. Печерские же отцы не страшились мести сильных мира сего. Для них претерпеть безвинно хулу и кару от земных начальников значило приблизиться к Христу.
Во-вторых, служение монастыря миру принимало форму чудотворений, гораздо более удивительных, чем кудесы волхвов-язычников, еще забредавших порой в Киев и стращавших народ. Как писал историк XIX в., «жизнь для Бога до готовности умереть за Него открыла над Печерским монастырем небо и наполнила его жизнь сверхъестественным. Там чудеса, там изгоняют бесов, умножают хлеб и мед, исцеляют больных, пророчествуют, туда сходят ангелы… Словом, Печерский монастырь в сознании современников стал "подобен небеси"». Неудивительно, что киевляне шли в монастырь со своими проблемами, попутно меняя мнение о монахах, прежде, быть может, нелицеприятное. Или оставаясь в глубине души при старых убеждениях.
Об отношении мирян к монахам во второй половине XII в., через сто лет после Феодосия Печерского, свидетельствовал Кирилл Туровский, яркий проповедник того времени. «…А последняя нищеты житье (монашеское. — Прим. авт.) — сиречь от белоризец (немонахов, мирян. — Прим. авт.) осужденье, досады и укоризна, хулы и посмехи… не бо тако мнят, яко Богу работающа мнихи, но акы прелестники и свою погублеша душу». Иными словами, в монахах видели лицемеров, притворщиков и соблазненных сатаной бездельников. Укоряли их в том, что они не Богу угождают, а тешат гордыню. Самому Феодосию пришлось однажды выслушать подобную укоризну в свой адрес. Поздно ночью он возвращался на телеге от князя Изяслава, и возница решил с пассажиром не церемониться: «Черноризец! Ты всякий день без дела, а я наработался. Вот что сделаем: я лягу в телегу, а ты можешь и на коне ехать». Блаженный Феодосий смиренно подчинился.
Если у князей и боярства иноки своими действиями могли время от времени вызывать гнев, то у большинства простого люда монахи пользовались презрением и всяческой неприязнью. Успели народиться и суеверия, связанные с монахами. Одно из них, особо возмутившее летописца, попало в «Повесть временных лет»: «…если кто встретит черноризца, то возвращается (чтобы начать путь заново. — Прим. авт.) и так же поступает, встретив кабана или свинью». Крепко же недолюбливали сограждане монахов, раз поставили их в один ряд со свиньей. Недолюбливали и опасались — поскольку суеверия рождаются от страха и ожидания неприятностей. Можно представить себе, как, завидев издали черную фигуру, горожанин поспешно сворачивал на соседнюю улицу, а сельский смерд, плюнув всердцах, закладывал по пути большой крюк. Или как пугали «злым чернецом» непослушных детей.
Один из самых впечатляющих рассказов Киево-Печерского патерика — о том, как был убит монах Григорий Чудотворец, ставший жертвой суеверия. Князь Ростислав шел с дружиной в монастырь благословляться перед военным походом. На берегу Днепра дружинники увидели Григория с ведром (как тут не вспомнить еще одно суеверие про «бабу с пустым ведром») и, крепко поморщившись от такой оказии, принялись осыпать монаха руганью. Он им в ответ: «Великое зло творите, чада, вместо того чтоб молиться о себе и плакать, потому что погибнете все скоро вместе с князем вашим в воде». Ростислав, услыхав «угрозы» (и не распознав пророчества), рассердился, велел связать дерзкого монаха, нацепить на шею камень и бросить в реку. Да повернул назад, так и не благословившись. А в скором времени, убегая с поля боя после поражения, вместе с дружиной утонул в реке…
И все же стоит повторить — власть и знать черноризцев почитали. Для монаха, скрывшегося за стенами обители от мирских соблазнов, этот почет хуже и горше многих унижений — ибо губителен для того, кто дал иноческие обеты. Среди знати в XI—XII вв. существовал обычай соперничать друг с дружкой по размаху пиров, устраиваемых специально для угощения — почтения — монахов. Обычай весьма порицался церковными иерархами, поскольку развращал иноков, не имевших возможности избежать приглашения. Впоследствии такие испортившиеся чернецы с «блудным нравом и обычаем похабным» лишь усиливали вражду мирян ко всем без разбора монахам. (Миру нет дела до собственной нелогичности — и аскет-смиренник для него плох, и «веселый монах» нехорош...)
Явление аскетического монашества в середине XI в. произвело разительное впечатление на все тогдашнее общество сверху донизу. Радикализм способов вольного страдания ради Христа был абсолютно «сумасшедшим». В давнюю мировоззренческую и бытовую
концепцию «Руси веселие есть пити» напористо вклинивалась диаметрально противоположная концепция вольного терпения страданий и лишений. Естественно, у очень многих она тогда вызывала неприязнь и отторжение.
Но именно это суровое монашеское страдальчество со временем, особенно во времена злой монголо-татарщины, полюбилось народу и на века стало воспитателем стойкости русского духа. Подвиг терпения, взятый на себя множеством поколений монахов, стал органичной частью «загадочной русской души», для которой в страдании приоткрывается тайна жизни…
Наталья Иртенина
radonezh.ru