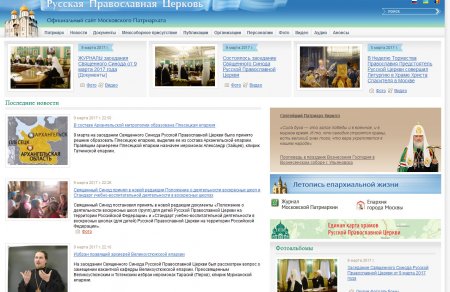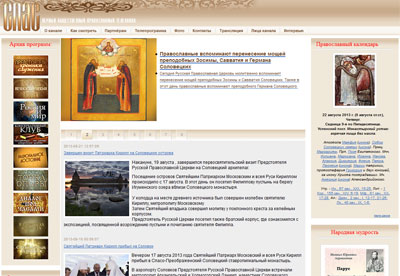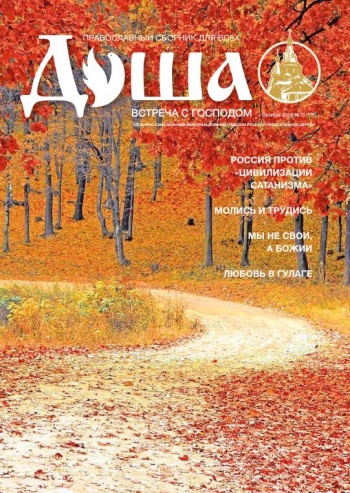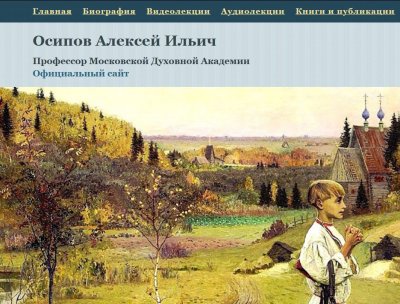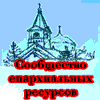Что общего между «Иудой Искариотом» Леонида Андреева и Мюллером из «Семнадцати мгновений весны»? Как стереотипы о Церкви рассыпаются благодаря личному знакомству со священником? В чем примером для верующих может служить Буратино? Об этом в интервью «Фоме» размышляет народный артист России Владимир Стеклов.
Как сыграть Иуду
— Вы приняли участие в мультимедийном проекте «Живая поэзия / Круг лета Господня», где исполнили два стихотворения Сергея Бехтеева: «У Креста» и «Мой народ». Чем продиктован такой выбор?
— Я выбирал из заранее определенного набора стихотворений. И эти два произведения лучше всего рифмовались с моим мироощущением. Во-первых, я, как театральный актер, люблю не просто лирику, но, скажем так, «жанровую поэзию», где внутри текста есть сюжет, драматургия. А во-вторых, — и это главное — мысль стихотворения «Мой народ» о том, что в каждом человеке обитает доброе и злое одновременно, кажется мне очень важной. Человек — сложносочиненное существо. Сколько всего в нас намешано! И что из этого прорастет — как росток или как мощный ствол, — зависит от самого человека, от его добровольного выбора либо в сторону света, либо в сторону тьмы. Здесь, конечно, большую роль играет окружение — учителя, люди, которые помогают оценивать ситуацию, не в последнюю очередь те, кто помогают прийти в храм. Но финальный выбор — все равно за каждым из нас.
Что я в себе обнаружу, что буду развивать, от чего буду пытаться избавиться и освободиться — в этом, на мой взгляд, и заключается земная человеческая жизнь.
Есть еще одно произведение, которое для меня с этой темой рифмуется, — «Иуда Искариот» Леонида Андреева. С тех пор, как я впервые эту повесть прочитал, я мечтаю сыграть Иуду. Прекрасно понимаю при этом, что произведение Андреева — абсолютно апокрифическое, имеющее мало отношения к Евангельской истории. Но ведь и на андреевского Иуду можно смотреть не только так, как смотрел на него сам автор. Злую шутку с Иудой сыграла гордыня — эта мысль, на мой взгляд, четко в повести прослеживается. Иуда думает, что он один по-настоящему любит Христа, и оттого берет на себя право решать, достойны ли остальные быть рядом со Спасителем. Иуда говорит Ему, что Он рано пришел и окружающие не готовы его принять, но он-то, Иуда, готов и даже просит освободить ему место в Царстве Небесном рядом со Христом. И предает он Христа для того, чтобы люди поняли, Кто перед ними: дескать, с первым гвоздем в их душах должно же что-то шевельнуться! Нет? Ну, тогда со вторым гвоздем? Опять нет? А толпа кричит: «Распни Его!» И Иуда уходит из жизни — то ли с чувством вины, что предал Того, Кого любил, то ли из желания быть рядом с Ним там — по ту сторону жизни… Содержательно это, повторюсь, конечно же, нельзя напрямую сравнивать с Евангелием, это лишь авторское размышление или даже авторская провокация, а мои слова сейчас — это лично моя актерская концепция персонажа. Но сама мысль мне кажется интересной: не сразу разберешь, где в Иуде гордыня, а где любовь, да и любовь ли? Если бы я играл Иуду, мне как актеру хотелось бы очень четко показать мотивацию его поступков, чтобы зритель мог задуматься: а нет ли и во мне кусочка Иуды? И если кто-то тут же начнет открещиваться: мол, «что вы, я даже не думаю в эту сторону, я с Иудой вообще ничего общего не имею», — значит, моя маленькая провокация попадает в цель.
— Но каким будет Ваше личное отношение к такому персонажу? Вы его скорее осуждаете или скорее оправдываете?
— Есть хрестоматийное утверждение Станиславского: «В плохом ищи хорошее, в хорошем ищи плохое». Поэтому для меня постановка вопроса «либо оправдывать, либо осуждать» — не из области искусства, а из области агиток. С таким подходом объемной человеческой истории не получится. Получится «Мойдодыр»: был плохой мальчик, встретил хорошего Мойдодыра и стал хорошим мальчиком. Тут, в принципе, можно вообще ничего не играть, а просто в конце выйти и продекламировать: «Итак, мораль сей басни такова…» Само собой, я по-человечески не готов ни оправдывать Иуду, ни жалеть его. Но мне было бы неинтересно и играть Иуду плоско: дескать, «это — кошмар, это — плохо». Причем я уверен, что это будет неинтересно и зрителю. Иначе о чем тут размышлять и где тут актерская провокация?
Знаете, когда я играл Гитлера в фильме «Адольф Гитлер. Билет в одну сторону», был у нас такой случай. Мы снимали сцену, где Гитлер, уже находясь в бункере, обращается к своим оставшимся соратникам с речью. Это был мой крупный план. На канале-заказчике, увидев материал, попросили эту сцену переснять, потому что Гитлер, по их мнению, получился у меня слишком уж человечным. Решили снимать со спины, чтобы лица Гитлера в кадре не было. Меня такой поворот событий, честно говоря, сильно огорчил. Гитлер — как исторический деятель — конечно же, чудовище. Но если мы, как создатели фильма, будем заранее пытаться показать чудовище, получится чудовищно скучно. Это будет уже не искусство кино, а искусство шаржа…
— А в чем в таком случае нравственная ответственность художника в целом и актера в частности? Должен ли художник задумываться, как бы в результате его провокации — например, изображения зла человечным и привлекательным — человек не стал хуже?
— Конечно, должен. Художнику важно, что конкретно он сеет и в какую веру, грубо говоря, хочет другого человека обратить. Мы несем за это полную ответственность перед Богом. Но дело, повторюсь, как раз в том, что если сводить искусство со всеми его парадоксами к плоскому жанру плаката и агиток, то это никого не тронет, зрителю ничего не даст, и художник, какой бы благой ни была его цель, ничего не добьется. Вспомните ранние советские фильмы про войну, где гестаповцы изображались в лоб и плоско, почти как шарж — этакими тупыми, безмозглыми идиотами. Возникает вопрос: это что — с этими идиотами мы так тяжело воевали? Это с ними мы боролись, и двадцать миллионов наших братьев отдали жизнь этой войне? И вспомните — на этом фоне — великолепные «Семнадцать мгновений весны», того же Мюллера в исполнении Леонида Броневого. Создан образ умного и сильного врага. Зрителю интересно, а главное — это возносит подвиг победы на принципиально иную высоту.
Пьеса Чехова «Мать»
— В своих интервью Вы часто цитируете Чехова: «Нужно нести свой крест и веровать». Как для Вас эта мысль преломляется на практике в реальной жизни?
— Эти слова для меня напрямую связаны с жизнью в Церкви. Помните первую главу «Мастера и Маргариты»? Герои спорят, существовал ли Христос на самом деле. «Но требуется же какое-нибудь доказательство…» — говорит Берлиоз, а Воланд отвечает: «И доказательств никаких не требуется. Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем…» Как ни парадоксально, можно согласиться с Воландом: поверить в Бога можно без доказательств. Но человеку свойственно полагать, будто окружающий мир что-то ему должен: «Я очень хочу поверить в Бога — а теперь, Бог, сделай что-нибудь, чтобы я в Тебя поверил. Предоставь доказательства. Я же должен с чего-то начать. Я же не могу просто пойти на службу, где я ничего не понимаю, где все на таком странном языке, называемом церковнославянским. Ну хорошо, пришел я — пятнадцать минут, может, выдержу. Ну ладно, постою, пока свеча горит. Да что ж она так медленно горит! Потушить что ли? Неловко как-то…» И вот стоит такой человек в страшном раздражении на священников, на весь храм, на тех друзей, которые уговорили его прийти. И думает дальше: «Нужны доказательства. Я слышал, иконы мироточат. Сам не видел, но говорят. Но пока сам не увижу — не поверю. Ну сделай же, Господи, что-нибудь, чтобы я поверил!» Все это сразу напоминает анекдот, когда человек обращается к Богу: «Господи, я беден и у меня нет никакой возможности прокормиться, ну почему же Ты никак не посылаешь мне выигрыш в лотерею?!», а Бог на это отвечает: «Ты хотя бы лотерейный билет купи». Я это понял, когда сам начал жить церковной жизнью. Этот переход — очень непростой. Ведь ты всю жизнь прожил в одной системе координат, и вдруг — в Церкви — тебе предлагается принципиально другая и совершенно необязательно, что комфортная. Раньше ты воспринимал мир доступными для тебя средствами — не в смысле примитивными, но теми, которые привычны. И вдруг — новое измерение. У человека пять органов чувств — а в Церкви нужен еще и шестой, чтобы прикоснуться к вечному. И тут начинаешь чувствовать себя ущербным, убогим инвалидом…
— Так чт? в такой ситуации, с Вашей точки зрения, делать? Стиснув зубы, идти в храм на службу, где ни слова не понятно? Как будет выглядеть «покупка лотерейного билета» в этом контексте?
— Поступать по Чехову: «Нести свой крест и веровать». Но это, конечно же, громко сказано. Для начала, наверное, нужно просто преодолевать себя, ждать и терпеть. Не понимаешь языка — научись понимать. А главное — заставь себя расти, двигаться вперед и вглубь своей веры. Будь любопытным. Помните, у Пушкина: «Мы ленивы и нелюбопытны». Вот лень и отсутствие любопытства, с моей точки зрения, — два качества, которые мешают духовно расти. Когда что-то непонятно или не получается — нужно долбить, долбить и еще раз долбить. Это касается всего, в том числе и церковной жизни. Ведь быть любопытным — это не в замочную скважину подсматривать, а постоянно задавать себе вопрос: «Об этом и об этом я узнал — а что там дальше? Чего я еще не знаю?» В этом плане пример для меня — Буратино. Его любопытство совпало с его «физиологией»: он поверил, что нарисованный очаг — настоящий, полез и проткнул носом полотно, а за ним обнаружил волшебную дверь.
— Вы много общаетесь с молодым поколением актеров: преподавали в ГИТИСе, работали с мальчишками в сериале «Кадетство». Как Вам кажется, в молодом поколении есть эта черта — любопытство?
Владимир Стеклов читает стихи русских поэтов. Фото предоставлено проектом "Живая поэзия/Круг Лета Господня"
— Прежде всего, не хотел бы тут обобщать, все зависит от человека, а люди разные. К тому же старшее поколение всегда во все века недовольно младшим. Но все-таки эпоха, в которой нынешние молодые люди живут и развиваются, накладывает отпечаток. И некоторым любопытства, на мой взгляд, и вправду не хватает. Вокруг них настолько плотные потоки информации, что они привыкли воспринимать мир как набор готовых ответов и решений. Им не очень хочется задумываться над проблемой, размышлять, интересоваться. В юности я страдал от того, что хотел прочесть какую-то книгу, но ее было не достать. Сегодня молодой человек заходит в Интернет и лениво находит там все, что нужно. И это в известной степени успокаивает сердце, делает его пресыщенным и равнодушным. Бывает, говоришь молодому человеку: «Это как у Бергмана…» — и понимаешь, что он не знает, кто такой Бергман. Владимир Этуш рассказывал мне, как на вступительных экзаменах в Щукинское училище абитуриент, который очень хорошо прошел все творческие испытания и даже худо-бедно написал сочинение, сидел на коллоквиуме и не мог сказать ни слова. Этуш пытался ему помочь, говоря: «Ну хорошо, молодой человек, кто такой Чехов, вы знаете»? — «Знаю, писатель». — «Назовите любую его пьесу, даже без содержания, просто название — и мы вас берем». Абитуриент подумал и ответил: «Мать». Люди, которые поступают в творческий вуз, не знают элементарных вещей. С одной стороны, можно сделать скидку на то, что человек приехал из провинции, но, с другой, мы же не спрашиваем у него ничего сверх нормы. Это я в юности учил марскизм-ленинизм и понимал, что мне это не нужно. Но теперь речь идет об основах основ…
Знаете, что мне напоминает эта пресыщенность информацией? Мои летние гастроли на море в Крыму. Спрашиваю: как вода? Мне местные говорят: не знаем, мы особо не купаемся. Я удивляюсь: как так можно — не купаться, когда рядом море? А они привыкли — что им рваться в это море, когда оно и так все время под боком.
И я тоже к этому чувству пресыщенности причастен. Помню, как я каждый день любовался Москвой, когда много лет назад только сюда переехал. Репетиции были в одиннадцать утра, я приезжал на «Пушкинскую» к десяти и неспешно шел по Тверской, которая тогда была улицей Горького, до театра Станиславского и с упоением смотрел по сторонам. А после спектакля говорил режиссеру: «Володь, давай пешком до «Охотного ряда» прогуляемся, а там уже на метро сядем!» И мы гуляли по этой ночной Тверской. А со временем все поменялось: выбегаю из метро, смотрю под ноги, по сторонам смотреть уже вроде бы неинтересно, тороплюсь, какой там Пушкин, какая там Москва, успеть бы на репетицию, и так же пробежать обратно в метро — и домой… Так я стал москвичом в самом плохом смысле слова.
Уныние хуже гнева
— Путь к вере и в вере всегда состоит из этапов. Какие этапы на своем пути Вы могли бы выделить?
— Как Вы понимаете, в нашем советском детстве путь в храм был не таким доступным, как сегодня. Меня крестила бабушка мирским и почему-то старообрядческим чином. Сам я этого не помню, но так рассказывала мама. Сама мама не решалась меня крестить, а вот бабушка — решилась. И относительно недавно — шесть лет назад — я крестился уже в церкви. Таинство совершил настоятель храма Алексия человека Божьего в Хотькове отец Сергий Трухачев. Я рассказал ему все то немногое, что знал о своем прошлом крещении, и он пришел к выводу, что меня следует крестить заново. С тех пор отец Сергий — мой любимый духовник.
В юности для меня, как и для многих моих сверстников, само понятие «Церковь» сводилось к одному дню Светлого Христова Воскресения, к событиям Пасхальной ночи. Мы шли вроде бы на службу, но по сути участвовали только в обряде: пройти крестным ходом, покричать «Христос воскресе — Воистину воскресе», а потом, что называется, разговляться — есть куличи и крашеные яйца. Хотя это все равно было радостно. Подготовка к Пасхе эмоционально напоминала мне подготовку к Новому Году. Здесь ты наряжаешь елку — там на твоих глазах замешивают тесто для кулича. В доме царила праздничная атмосфера. Но Пасха не носила характера церковного праздника, оставаясь, скорее, просто неким мероприятием.
Все изменилось после обретения своего духовника и своего прихода. В этом смысле знакомство с отцом Сергием и его семьей стало для меня, пожалуй, самым главным этапом на пути к вере. И под словом «Церковь» я начал понимать не только Пасхальную ночь, но постоянную церковную жизнь — с исповедью и причастием. И сама Пасхальная (как, кстати, и Рождественская) ночь наполнилась новым содержанием.
Раньше самую значительную часть этой ночи — собственно службу — мы упускали. Через пятнадцать-двадцать минут после полуночи все для нас заканчивалось. А теперь мы проводим в храме все время службы — и, надеюсь, не чтобы просто «отстоять», как принято говорить, но чтобы в службе полноценно поучаствовать и весь ее смысл, всю ее радость в себя впустить. И разговение тоже превратилось из поедания вкусностей в настоящую братскую трапезу, где люди объединены не продуктами на праздничном столе, а благой вестью о том, что «Христос Воскресе». Это же касается Рождества: теперь этот праздник я воспринимаю как общинный — мы разделяем его с другими людьми в храме. Я даже однажды принимал участие в праздничном детском представлении — играл одного из волхвов… Словом, формировать меня как православного человека в какой-то момент начал реальный личный опыт церковной жизни.
— Существует множество стереотипов о Церкви — «грубые священники», «унылые прихожане»… Насколько Ваш личный опыт подтверждает такие стереотипы?
— Скорее, опровергает. Община — это семья. Спускаться после службы в трапезную и оказываться среди людей, которых хорошо знаешь и любишь, — это большая радость. Чувствуешь себя в этом красиво расписанном подвале как дома. Это раз. А два — это ощущения во время службы. Это ведь не всегда просто — участвовать в службе, даже когда на ней находишься: мысли отвлекаются, думаешь о чем угодно, только не о том, что слышишь… И вот когда в этот момент осознаешь, что на клиросе поет супруга нашего батюшки — матушка Люба и их дочки, и их сын с удивительным басом — понимаешь, что к тебе со словами молитвы обращаются твои друзья. И значит, ты соприкасаешься с чем-то совсем не чужим, не внешним по отношению ко всей твоей обычной жизни.
— А откуда стереотипы о Церкви, с Вашей точки зрения, берутся?
— Мне кажется, в логике этих стереотипов рассуждают те, кто смотрит на Церковь со стороны. Они рассуждают абстрактно, в общем: где-то существуют некие священники, которые «все делают не так» и т. д. Но когда у тебя есть свой приход и ты знаешь конкретного отца A и отца B, а не «каких-то священников вообще», то восприятие многих вещей меняется. Говорят: «В России воруют». Ну да, наверное, есть те, кто ворует. Но те люди, которых я знаю лично и с которыми общаюсь, не воруют.. В этой ситуации рассуждаешь не абстрактно, а опираешься на то, что сам испытывал и переживал.
При этом в моей жизни был эпизод, когда общение со священником оказалось, мягко говоря, сложным. Но мне не пришло в голову делать на основе этого вывод о всей Церкви в целом и обо всех священнослужителях вместе взятых. Дело было так. У меня был трудный период в жизни. Я мучился необыкновенно и не знал, как из замкнутого круга выбраться, — вплоть до того, что меня водили к каким-то ведьмам… И тут мне сказали, что в одном московском православном храме служат монахи, и там есть человек, который может мне как духовник помочь. Я, как и велели, постился три дня, поехал рано-рано утром на службу, чтобы исповедоваться. Мне это казалось потрясающим выходом из ситуации! «И зачем я все это время чего-то еще искал? — думал я. — Зачем плакался в жилетку? Вот храм, там помогут». Иду от метро к храму, голова кружится, служба идет долго, глаза слипаются, очередь к тому монаху огромная. Наконец, я к нему подхожу — и тут вдруг начинаю страшно волноваться! Все же это было очень непривычно для меня — не было в моей жизни еще отца Сергия, да и никакого церковного опыта не было. Прийти на исповедь к незнакомому человеку оказалось сильным стрессом. В горле как будто ком встал. Стою — пытаюсь что-то сказать, а выходит — бормотание, лепет. И тут этот монах вдруг говорит: «Да Вы вообще к исповеди готовились?» Причем не с раздражением, а… с равнодушием, как будто я муха, которая вокруг него летает и мешает. «Что стоите? — продолжает он. — Говорите, что у вас». Мне вдруг показалось, что я пришел не в храм, а в паспортный стол… Я в ужасе ушел.
Но знаете, для меня это не сугубо негативный опыт. Я, конечно, испытывал жгучую злость и даже ненависть, но зато ушло нечто другое, может быть, даже более страшное — уныние. Это, на мой взгляд, более болезненное состояние души, чем гнев. Появилось понимание, что нужно что-то делать, двигаться, взнуздывать себя, чтобы трудности преодолеть. В тот момент я понял, что Церковь дает человеку помощь не всегда на блюдечке с голубой каемочкой, не всегда в красивой упаковке, не всегда благостно. Когда тебе плохо, ты готов сделать все что угодно. Но попоститься и подготовиться к исповеди — это, в сущности, совсем не трудно. А вот попробуй прими настоящее лекарство… Церковь говорит: соверши невозможное, которое для тебя на самом деле возможно. И ты пробуешь совершить — и исцеляешься. Это не такая помощь, что «муха шла и копеечку нашла». Христианство — не простой путь, здесь не все прямолинейно, мол, сделай так — получишь результат. Нет, ты меняешься через испытания — иногда сам того не замечая.
Беседовал МАЦАН Константин
foma.ru