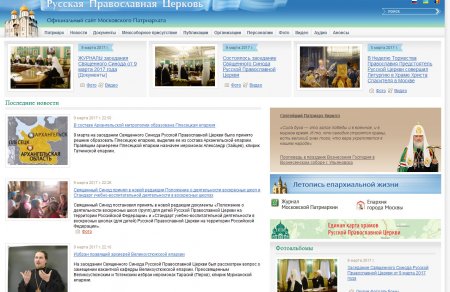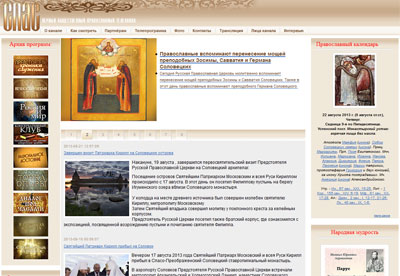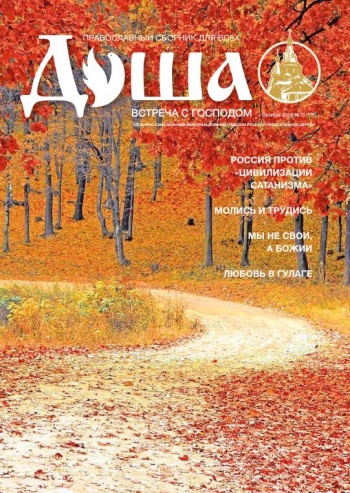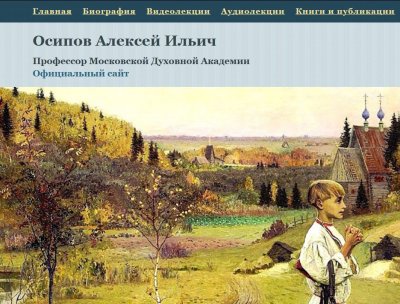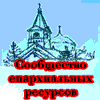Один человек, православный, как-то сказал: идейному коммунисту проще прийти к христианской истине, чем приверженцу либеральной идеологии. Первый уверен в существовании высшей истины (которая на текущий момент представляется ему в виде марксизма), поэтому может когда-нибудь последовательно дойти до познания христианского абсолюта. Для второго же мир состоит из множества мелких равнозначных истин, в которые можно постмодернистски играть, заменяя одну другой, но невозможно посвящать им жизнь. Если, конечно, не считать высшей либеральной истиной идею максимально комфортной жизни индивида.
Четверть века Россия живет в постмодернистском понимании истины, а именно в ее отсутствии. До этого семь десятков лет страна была взнуздана марксистской подделкой под высшую истину. А прежде того девять веков она существовала как цивилизация, стержень которой — абсолютная и неотмирная истина Христа. Половину из этих девяти веков Россия считала себя главным и ответственным хранителем истины. Гибель Византии в середине XV столетия возложила на русских бремя единственного в мире православного царства.
За эти века русские привыкли владеть истиной и беречь её, приноровились нести на своих плечах благой груз. Хранение истины в целости и невредимости стало национальной идеей, национальной задачей. Это вошло в кровь, в плоть, в гены, в менталитет, в коллективное бессознательное.
Потом произошла подмена истины. А затем красная пятиконечная подделка под истину стала всего лишь «одной из». Вместо одной истины в руках у русских вдруг оказалось много, выбирай не хочу. Почему-то это богатство народ не обрадовало.
По своей сути русские остались хранителями. Только хранить стало нечего, быть верным — нечему. Народ стал будто пьяный, одурманенный.
Русских обычно отрезвляет война. Не гражданская, где воюют идеи, а отечественная, в которой борются жизнь со смертью.
Когда в воздухе запахло войной на отколотой русской территории — по большому счету войной за жизнь — народные массы в России пришли в движение. Зашевелились души, умы, пробудилась воля, родилась надежда. Народ стал искать свою потерянную истину. В том числе бросился выбирать среди старых эрзацев. Напряжение по линиям идейного раскола в российском обществе устремилось к максимуму.
За идеи бьются как за истину спасения, как за собственную жизнь, с холодной или горячей ненавистью к противникам. Веяние прогресса загнало эти страсти в виртуальную интернет-среду, расплескало по социальным сетям, популярным сайтам и форумам. Иногда оттуда доносятся вовне раскаты великой битвы, попадая в новости центральных телеканалов. Ложь, злоба, клевета, презрение, оскорбления, угрозы — вот снаряды, рвущиеся в российском сегменте интернета. Их взрывы гремят на фоне бесконечных залпов информационной гражданской войны, ведущейся в СМИ, главным образом электронных.
Нас даже праздники не объединяют, а лишь подчеркивают разделение. Не религиозные даже — гражданские праздники. 9 Мая схлестывает в жесткой информационной битве патриотов и «либералов» (точнее было бы называть их либертарианцами). Новый год, «языческая пьянка», как выразился один писатель, отсекает православную страту общества, у которой Рождественский пост. 4-го ноября одни празднуют память Казанской иконы Богоматери, другие идут на марш русских националистов, для третьих это день добрых дел, выполняемых сообща, четвертые ждут праздника только через три дня, 7-го числа, для пятых это просто лишний выходной, для шестых — повод позубоскалить и всплакнуть над «рабской Россией».
Это в XVII веке могло быть единство народа, поднявшегося против Смуты. Потому что помимо выбора, кого провозгласить царем, была истина Евангелия, одна на всех, стоящая намного выше любого патриотизма.
Пока разломы в народе не склеит одна высшая истина, патриотизм может быть столько же объединяющим, сколько и разъединяющим. Разве чеченцы, воюя против России, не бравировали горским патриотизмом? Или коммунисты не патриоты? Или украинские «небратья» не из патриотизма скакали?
Главный разлом в стране, от которого далее ползут идеологические разломы, — разница в понимании истины.
Так что есть истина?
Ответ, в котором сойдутся правые и левые, христиане и безбожники, консерваторы и модернисты можно озвучить словами Антуана Сент-Экзюпери: «Жизнь — единственная истина для меня». Но совсем любая жизнь — это истина только для философов. Для всех прочих истинна лишь наилучшая жизнь. Истинно то, что дает жизнь, движет ее к расцвету, возводит к совершенству. Вечная жизнь христианства. Справедливая жизнь общества в левых идеологиях. Достойная физическая жизнь без страданий в гуманизме. Успешная, комфортная, своевольная, без каких-либо ограничений и утеснений с чьей-либо стороны — в либеральной картине мира.
Классическое определение: истина — это представление о реальности, соответствующее самой реальности. В каждом человеческом существе с детства живет представление о собственном бессмертии. С возрастом оно заглушается фактом смертности, стоящим перед глазами, — либо совсем исчезает, либо не совсем, продолжая мерцать в сознании.
Явление Христа, воскресавшего мертвых и воскресшего, сделало представление о бессмертии соответствующим реальности. Кто не похоронил в себе знание о бессмертии, тот видит в Христе дверь в реальность совершенной, бесконечной жизни. «Я есмь путь, и истина, и жизнь», — говорит Христос (Ин. 14:6).
На войне даже атеисты быстро учатся верить в бессмертие. Одно из свойств высшей истины — незыблемость. На войне физическая жизнь очень наглядно теряет это свойство, и значит она не истина. Приходит понимание, что истина там, где жизнь не может быть оборвана, не может просто так взять и кончиться. И что, следовательно, во всех более низких пластах бытия истины нет. Она лишь там, где есть личное бессмертие. Тогда и прочие ценности, которые прежде казались производными от истины, ценности исповедуемой идеологии теряют в весе.
Смерть и зло не есть истина, а лишь то, что закрывает ее от взора. Скорби, болезни, страдания — не истина, а то, что может помочь разглядеть ее, устремив взгляд в нужном направлении. Такое понимание истины как благодати принесло с собой христианство. В язычестве еще не было, в постхристианстве и неоязычестве уже нет истины как обетования личного и блаженного бессмертия (древние языческие представления о загробье слишком смутны, мрачны и противоречивы). Объективная истина язычества и постхристианства видит истину и в смерти, поскольку смерть — факт реальности. Зло, ненависть, жестокость, любой грех — объективная истина, потому что они — действительность.
В христианстве истина не равнозначна земной действительности. Она за ее пределами. Скорее она — заданность. То, какими должны быть мир и человек по замыслу Творца. Идеологии, выродившиеся из христианских культур (гуманизм, просвещенческий либерализм, коммунизм), снова низвели истину в земную плоскость.
Метания людей по сектам и религиям, характерная черта постхристианской действительности, это человеческая жажда после утраты неотмирной истины. В языческом мире этой жажды не было. Язычество всеядно, апофеоз его — толерантность Древнего Рима, который прописывал всех чужеземных богов в своем пантеоне. В постхристианские времена для притупления жажды истины вернулись к тому опыту толерантности. Человек, обученный современной толерантности, уверен, что жажда истины — ложное ощущение, иллюзия, бред спутанного сознания. Неоязыческий мир приветствует лишь два типа отношения к истине: толерантное, то есть равнодушное, либо сектантское, то есть безрассудное.
Но что прочему миру хорошо, то русскому смерть. Умиротворить волнующееся русское море может лишь абсолютная истина, дающая бессмертие. А если нет бессмертия, то и истины нет. Все шатко, неустойчиво, зыбко, тленно, вплоть до звезд, галактик, целой вселенной, которая тоже погибнет.
Бессмертие в мире тлена, энтропии, нарастания энергии разрушения и угасания энергии жизни может существовать лишь как сверхъестественный дар, попирающий физику. Но где дар, там и Даритель. Не мертвая природа, а живая Личность…
Государственная власть, разумеется, обязана понуждать народ к единству, к внутреннему миру и согласию. Она это и делает в меру своего понимания единства и своих административных возможностей. В том числе с помощью Дня народного единства 4 ноября. А до того (но как-то совсем неудачно) — Дня примирения и согласия 7 ноября. В действительности, и не только для православных, такое примирение и согласие было бы пилатовским умыванием рук, подписавших смертный приговор Тому, Кто дарует жизнь человекам и историческое бытие народам.
Есть лишь возможность временного и ситуативного согласия со сторонниками иных ценностей, приверженцами иных идеологий и объективных истин. Христианин вряд ли откажется считать ценностями государство, патриотизм, справедливое устройство общества — то, что важно для левых; политические и экономические свободы, основные жизненные права человека — то, что имеет значение для либералов. В отечественной войне с оружием в руках встанет бок о бок и с коммунистом, и с анархистом, и с либеральным постмодернистом. Будет искать земную правду вместе с гуманистом. Будет говорить о правах русского народа вместе с адекватным националистом. В бытовом и социальном общении с другими будет искать не то, что разъединяет, а то, что объединяет.
Линия несогласия и непримирения проходит по линии горизонта, отделяющей землю от неба. Вотчину князя мира сего, отца лжи и человекоубийцы — от Царства незыблемой жизни. «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34).
Меч, рассекающий надвое земных сиамских близнецов — жизнь и смерть, отделяющий одну от другой.
Народного единства в России нет и при нынешних общественных тенденциях быть не может. К 2017-му году напряжение в линиях идейного разлома будет лишь нарастать, зашкаливая. В этот год, столетний от двух роковых дат русского распада, «сакральных» для либералов-февралистов и для коммунистов, общество должно будет раскалиться добела.
Может быть, это и хорошо. Не шевелится, не преодолевает внутреннее и внешнее сопротивление лишь то, что мертво. А Русь, несомненно, жива.
«Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор. 6:14-16).
Объединителем народа России может быть только дух, а не идеи.