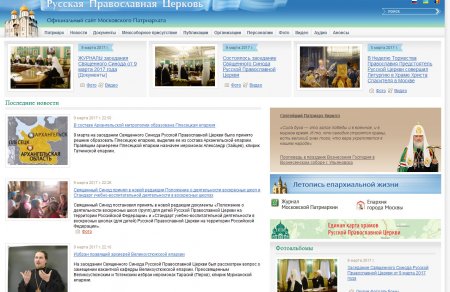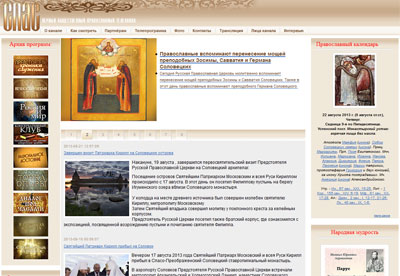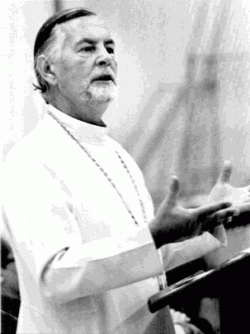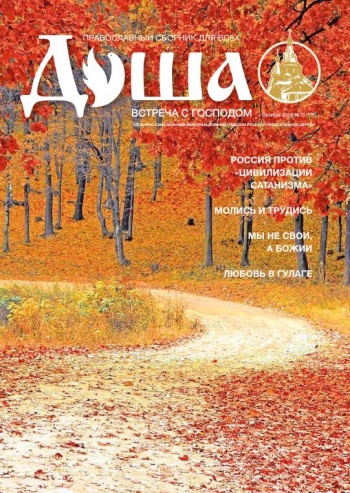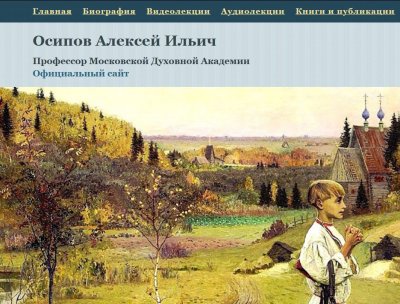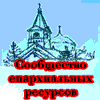Как должны мы разговаривать о своей вере с неверующими – или верующими, но не сделавшими еще четкого выбора, с невоцерковленными – родными и близкими? Проблема болезненная и возникает у каждого из нас с неизбежностью… Но она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, эта проблема. Ведь то, как и, главное, с каким результатом мы говорим о своей вере, многое говорит о нас самих.
Сказано уже не раз, что не нужно свою веру никому навязывать; что не нужно без нужды спорить; что только с тем человеком нужно о вере говорить, кто сам этого разговора захотел и кто, главное, услышать тебя готов. Как написал в свое время один священник, только в те двери нужно входить, которые перед тобою открыты, а пытаться замок взломать или тем паче ногой дверь высадить – это заведомо ни к чему хорошему не приведет.
Все правильно. Но иногда бывает так, что наш неверующий или невоцерковленный ближний сам, и довольно резко, распахивает перед нами свою дверь, сам заводит с нами разговор о причинах своего неверия или неприятия Православной Церкви и бывает при этом весьма настойчив и даже агрессивен. А мы – теряемся, мы не можем вот так сходу разобраться в том, что от него исходит и что, соответственно, происходит с ним. И хорошо еще, если эта наша беседа ссорой не закончится и если мы – при всей нашей искренности, при всем нашем желании и ближнему помочь, и Христу послужить – не оттолкнем его от Церкви еще дальше, чем он стоял до разговора с нами.
У меня есть давняя – с молодости – подруга, назову ее Ириной. У нее двое детей: сын заканчивает вуз, дочь – старшеклассница; с мужем Ирина с недавних пор разведена. И у меня жизнь протекала непросто, и у нее, однако именно Ира в течение многих лет спасала меня от одиночества. Много раз мне помогала – в том числе и материально, когда брала за горло нужда. Любила мои стихи. Легко простила мой, мягко говоря, непродуманный поступок – хотя я поставила ее тогда в крайне неловкое положение…
В свою очередь и я, наверное, была ей нужна: в самые горькие дни своей жизни она могла мне выговориться, могла, общаясь со мной, разрядиться, успокоиться, а это уже немало.
Но однажды в наших отношениях появилась грустная закономерность: чем больше места в моей жизни занимала Церковь, тем реже мы встречались с Ириной.
А когда все же встречались – сразу чувствовали, что нам трудно разговаривать, что нам неуютно вместе.
Почему?.. Мы ведь и раньше могли как сойтись, так и не сойтись во мнении относительно любого внешнего события или человека.
Но внешние события, пусть даже и очень серьезные, – это одно, Христос и Его Церковь – другое: здесь несогласие чувствуется сразу, глубинно, даже помимо сознания.
Впрочем, наше с подругой несогласие не только чувствовалось глубинно. В каждом разговоре оно сразу – прошено или непрошено – вылезало на поверхность. И это было мучительно. Это ранило нас обеих.
– Давай больше никогда к этой теме не возвращаться, – предлагала Ира, покаянно признавая при этом, что «сама опять завела разговор».
Я внешне соглашалась: давай. Но при следующей встрече несуразный, нервозный и, главное, бесплодный спор почему-то возникал снова.
Утверждения Ирины не содержали, конечно, ничего оригинального: «Иисус Христос, может быть, и существовал, но это был просто человек. Зачем понадобилось делать его Богом?.. Бог, может быть, и есть, но есть ли смысл во всех этих церковных ритуалах?..» И тому подобное. Мне было больно это слышать, конечно, и я пыталась хоть что-то ей объяснить, хоть в чем-то убедить, но – тщетно.
Как ни парадоксально, при всех своих толстовских рассуждениях Ирина делала несколько попыток приобщиться к церковной жизни. И все эти попытки оказывались неудачными. То есть оставляли чувство горечи, разочарования, обиды. Почему?.. На днях у нас вышел-таки разговор на эту именно тему. И я испытала то, о чем сказано выше: растерянность, недоумение, чувство собственной беспомощности.
– Я поняла, – сказала мне Ира, – что главное средство воздействия на человека в этой Церкви – постоянное внушение ему комплекса неполноценности: ты грешен, ты низок, грязен, плох; ты недостоин здесь находиться; скажи спасибо, что мы тебя не выгнали…
– Ирочка! – возмутилась я. – Что ты говоришь?! Всё совсем не так!
– Всё именно так! – вспыхнула Ирина. – Я решилась исповедаться и причаститься. Я спросила бабушку в церкви, что мне нужно делать. Бабушка хорошая, добрая, она сказала мне, что нужно три дня поститься, и показала, какие молитвы нужно прочитать. Я постилась, я прочитала эти молитвы, хотя они не очень-то мне понравились, они меня угнетали, в них всё то же самое: Господи, я такой плохой, я такой грешный, Ты меня помилуй… Я читала и думала: зачем мне это самобичевание, почему я должна считать себя хуже всех?.. Прочитала, однако. Прихожу в церковь, исповедуюсь, как умею. Священник мне: «К причастию готовились? Молитвы читали?.. Хорошо. А каноны?» Про каноны мне бабушка ничего не сказала. Он мне: ну ладно, дескать, сейчас я вас до Причастия допускаю (тут голос Ирины начинал обиженно звенеть), но следующий раз обязательно читайте каноны…
– И что? – удивлялась я. – Чем он тебя обидел, этот батюшка? Чтение канонов – сложившаяся практика подготовки…
– Со мной по-человечески никто не поговорил, меня никто не поддержал – но я уже кругом должна и виновата!
– Почему я должна их читать, эти каноны? Что изменится от того, что я их прочитаю? Зачем мне их навязывают? Если Причастие действительно соединение с Богом, как ты меня убеждала, то почему мне ставят такие условия: прочитаешь каноны – дадим тебе соединиться с Богом, не прочитаешь – не дадим?.. Я ничего не понимаю в этих канонах. Я ничего не понимаю на этой службе. Ты мне прошлый раз говорила: чтобы понять, я должна потрудиться, разобраться, прочитать какие-то там книжки… Слушай, почему я на каждом шагу что-то должна? Мне ничего еще не дали, со мной просто по-человечески никто не поговорил, меня никто не поддержал, хотя мне ведь совсем не так легко было решиться на исповедь перед незнакомым человеком… Зато я кругом – должна и виновата! Канонов не читала! Брюки вместо юбки надела! Омлет съела в пятницу! И мысли-то у меня не те, и желания-то грешные! Виновата и должна каяться! И всегда знать, что плохая! И ничего другого у вас для меня нет!
Я знала Ирину как разумного, адекватного человека и не могла понять, откуда такая буря обиды, такой поток странных – с моей точки зрения – утверждений. Я вновь пыталась что-то объяснить, но подруга совершенно не хотела меня слушать – перебивала, всё больше горячась:
– Нет, всё, больше я в эту церковь не пойду! Не верю я в то, что там делается…
Мы расстались расстроенными. Назавтра Ира позвонила и извинилась за излишнюю горячность и резкость, за то, что задела, возможно, мои «религиозные чувства». А я уже понимала, что должна извиниться перед ней, хотя и не сформулировала еще для себя, за что.
За то, для начала, что не понимаю ее личной ситуации. Смотрю на все, что от нее исходит, на всё, о чем она говорит, – только своими собственными глазами, со своей, как говорится, каланчи; и с этой каланчи кричу своё: «Неправильно! Не так!» А глазами Ирины на это посмотреть, в ее положение войти – бессознательно отказываюсь.
Меж тем всё, что Ирина с такой несправедливой обидой, с такой неразумной горячностью произносила, – это, по сути, крик о любви.
Крик – всегда неразумен, почти безумен. Он – выражение не только страдания, но и отчаяния
Крик – он ведь всегда неразумен, почти безумен. Он – выражение не только страдания, но и отчаяния: человек кричит, потому что не надеется быть услышанным иначе. Ирина бессознательно надеялась быть услышанной и понятой – если не Церковью, то хотя бы мною.
Конечно, она неправа. И не выйдет из тупикового состояния, если не поймет своей ошибки, своего заблуждения, наконец, своего греха. Но если я действительно хочу не только защитить свой мир от некоего поругания или себя от боли, но и реально помочь другу – мне нужно для начала понять, чем обусловлено его душевное состояние, чем порождена его неправота.
Моей подруге на самом деле очень многое пришлось пережить. Предательство мужа, не сказавшего ей даже спасибо за то, что она три года подряд ухаживала за его тяжелобольной матерью; затем – холодное высокомерие старшего сына, обвинившего в разводе именно маму… Плюс ко всему этому – ранняя смерть отца, единственного, по словам Иры, человека, любившего и понимавшего ее «по-настоящему».
Много раз сказано, что в Церкви нужно искать не чего-то другого, а именно Бога, а все остальное приложится вам (ср.: Мф. 6: 33). Но человек немощен, уязвим и, когда попадает в травмирующую ситуацию, ищет помощи, защиты, поддержки, утешения. И если он ищет этого именно в Церкви, а не где-то еще, значит, вера в нем – есть. Это еще не вера-убеждение, нет, это глубокое – глубже сознания, которое может сопротивляться, – сердечное чувство или интуиция. Многие из нас – да едва ли не все! – переступили в свое время церковный порог, руководимые именно этим чувством, подсказывавшим: вот где выход из твоей скорби, боли, тесноты, вот в чем свобода…
Переступить-то переступили, а что дальше? У кого-то процесс воцерковления идет успешно («семимильными шагами», как призналась мне недавно одна сияющая девушка), а у кого-то сразу возникают проблемы. Чаще всего они, как я заметила, возникают у людей травмированных, у тех, кому действительно худо, кто ждет немедленной и радикальной помощи и не может принять того обстоятельства, что не получает ее прямо вот так сразу.
Конечно, священник, попросивший Ирину в следующий раз читать ко Причастию каноны, не сделал ровно ничего плохого или неподобающего. И вряд ли я вправе осуждать его за то, что он, так скажем, не вник в ее личную ситуацию, в ее душевное состояние, не понял, наконец, что она исповедуется и причащается впервые. Я не знаю, которой по счету исповедующейся она оказалась у него в тот день… И все-таки как это важно – не только для священников, для всех нас, оказывается, – знать, помнить, что люди к нам приходят очень-очень разные и не всякий из них готов услышать те правильные вещи, которые мы говорим.
Ирина просто слишком истосковалась по любви, слишком хотела тепла, понимания, утоления боли. А ей вместо этого сказали: читайте каноны. Да, ее реакция на это «читайте каноны», как и на мои настойчивые предложения разобраться в богослужении, прочитать книжку митрополита Антония и т. д., – не вполне адекватна. Но это – от сорванных нервов. И, возможно, от сформировавшегося уже негативного восприятия действительности вообще. Ирина еще не знает, что о грехе Церковь говорит, исходя, как и Христос, из любви к человеку. Она еще не открыла этого для себя, вот прочему ей кажется, что словами о грехе и раскаянии ее хотят подавить и унизить – как унизили в собственной семье.
Если бы я сразу осознала, что и почему с моей Ирой происходит, я бы нашла для нее нужные слова. Нет, я не перевернула бы за какой-то час ее сознание, не привела бы ее прямо из кухни в церковь, но я по крайней мере посеяла бы в ней добрые семена, предварительно увлажнив ее пересохшую почву. Но увы: я видела только ее неправоту, а ее страдания не видела.
Я надеялась помочь объяснениями – а нужно помогать любовью. Объяснениям поверят, если почувствуют любовь
Помните моление на литии «о всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, милости Божией и помощи требующей»? Милости – Божией, помощи – нашей. А как помочь? В том-то и беда, что я надеялась помочь объяснениями. А нужно помогать любовью. Объяснениям человек поверит, если он почувствует любовь к себе. Умную любовь, такую, которая тождественна пониманию.
Предположим, я это осознала, хотя и с опозданием – а что дальше? В чем должна в данном случае выражаться моя любовь к этой душе?
Прежде всего – в отсутствии осуждения, фарисейского высокомерия («Я, в отличие от нее, в истине стою») и личной обиды – за то, что подруга говорит неприятные и болезненные для меня вещи. Пока я не могу отделаться от этих вещей, а они порождают во мне болезненное раздражение, мешают просто позвонить Ирине и спросить, как дела.
Но у меня нет выбора: приближается день ее рождения. Не могу же я ее не поздравить! А поздравлять человека, имея нечто против него… наверное, невозможно.
Конечно, я молюсь за Ирину. И за себя тоже молюсь: прошу, чтобы к тому моменту, когда у нас с подругой снова возникнет разговор о вере и Церкви, я реально изменилась.